«ГОРОД АНТОНЕСКУ»
Яков Верховский,
Валентина Тырмос
Интермедия первая
Овеянная черноморским ветром,
Оправленная в пенистый прибой,
Две тысячи… нет больше километров
Одесса, разделяет нас с тобой.
Степная воля и морская сила,
Простор, влекущий в дальние края,
Такой тебя мне память сохранила,
Чудесный город, родина моя.
Вера Инбер
Когда в Одессу пришла война
Теперь оставим ненадолго двух еврейских детей в «Городе Антонеску» - маленькую Ролли под лестницей в переполненной людским месивом тюрьме на Люстдорфской дороге, а Янкале в Еврейской больнице, куда несчастная мать привела ребенка после отчаянного бегства с Дальника.
Оставим их под угрозой ежеминутной смерти.
Оставим их…
И вернемся на четыре месяца назад к тем дням, когда в Одессу пришла война.
На военном положении
26 июня 1941 года.
Пятый день идет война.
Где-то гремят орудия, льется кровь, гибнут люди. (1)
Где-то на Западном фронте германские бронированные клинья завершают окружение Минска и уже угрожают Смоленску и Москве. Где-то на Юго-Западном механизированный корпус генерал-лейтенанта Дмитрия Рябышева, выполняя задуманный Сталиным «ответный удар», уже вступил в неравный бой с танковой группой генерал-фельдмаршала Людвига фон Клейста. А на Южном фронте стоит тишина – объединенные румынские и немецкие армии под командованием генерала Антонеску военные действия все еще не начинают. Но, несмотря на это, Одесса, один из самых значимых стратегических объектов на Черном море, сегодня, 26 июня 1941-го, объявлена на военном положении.
В город пришла война.
Правда все еще трудно представит красавицу Одессу в военной шинели. Трудно представить, что этот обычно искрящийся весельем город в одночасье станет суровым. Трудно представить, что в летних прозрачных сумерках вдруг не зажгутся старинные фонари у Оперного театра, что в десять вечера захлопнутся двери Центрального гастронома на углу Дерибасовской и Преображенской, а еще через час прекратится показ кинофильма в кино Уточкина в Городском саду. Трудно представить, что еще до полуночи поспешат по домам завсегдатаи ресторана гостиницы «Лондонская» на Приморском бульваре – обычно они расходятся только на рассвете. Трудно представить, что с двенадцати ночи до четырех с половиной утра будет действовать комендантский час, а улицы города станут темными и безлюдными.
Но еще более трудно представить, что через три с половиной месяца Одесса станет «Городом Антонеску».
Мадригал
О-де-с-с-а… Само это слово, протяжно звучащее в устах одесситов, ласкает слух.
Одесса всегда была необыкновенным городом. Городом, который очаровывал, пленял, городом, который буквально влюблял в себя.
Прямые, зовущие в море улицы. Ансамбли зданий, каждое из которых – шедевр легендарных зодчих Фраполли, Боффо, Бернардацци…
О-де-с-с-а… Вслушайтесь в музыку этого слова.
Вряд ли во всем мире есть другой такой город, где люди способны шутить и смеяться даже тогда, когда на душе, что называется, «кошки скребут». Шутить и смеяться в первую очередь над собой. Шутить и смеяться и рассказывать анекдоты, смешные и грустные, чисто одесские анекдоты, которые в страшные сталинские времена могли стоить рассказчику, по меньшей мере, многих лет Гулага.
Вряд ли во всем мире есть еще одна такая «нация» - «одесситы», которые говорят на столь странном наречии - конгломерате множества языков. На странном наречии, щедро сдобренном особым одесским юмором и смягченном неповторимой чисто одесской интонацией.
Во все времена, даже самые трудные, «весело» было жить в Одессе!
Исаак Бабель: «Одесса – очень скверный город. Это всем известно: вместо «большая разница», там говорят - «две большие разницы» …Подумайте – город, в котором легко жить, в котором ясно жить…». (2)
Во все времена, даже самые трудные, ясно было жить в Одессе.
Мы, наверное, все-таки пристрастны к нашему родному городу, как когда-то «неумеренно пристрастен» к Одессе был Бабель.
Но вы, конечно, помните, как отвечал он на это обвинение:
«… и пристрастен я действительно и может быть намеренно, но parole d'honneur, в нем (в этом городе!) что-то есть».
Так что же есть в ней, в Одессе?
В чем колдовство этого города?
Откуда его странная магическая сила?
Притягивающая даже издалека, через моря и океаны?
Притягивающая даже после долгих лет разлуки?
Что это? Пьянящий аромат белой акации по весне? Согретые ласковым летним солнцем пески Аркадии? Волшебный свет огромной круглой луны над черным морем? А, может быть, это стук созревших светло-коричневых каштанов, падающих осенним днем на синие базальтовые плиты тротуара? Или же мокрые от первого дождя багряные листья платанов на дорожках Французского бульвара?
В чем колдовство? Почему так тоскует по Одессе поэтесса Вера Инбер, давно уже ставшая «ленинградкой»? Почему художник Петр Нилус, ставший «парижанином», «готов отдать все растения мира за одну акацию на Херсонской улице»? Почему, по признанию Леонида Утесова, много лет назад покинувшего город, одно лишь случайно услышанное слово «Одесса» заставляет трепетать его сердце?
Почему Ефим Лодыженский,
большую часть своей жизни проживший в Москве, с такой любовью воссоздает
образ этого города - города своего детства? Почему Одесса так ощутимо
присутствует в дневниковых записях Юрия Олеши, сделанных им далеко от
нее - в Петербурге, Москве, Ашхабаде:
«Каштаны… Каштаны… Каштаны… Забуду ли когда-нибудь это дерево, цветущее
розовыми свечами?.. Не птица ли это? Странная, расфуфырившая хвост,
усатая птица!».
Почему великий мастер
детектива француз Жорж Сименон, посетивший однажды Одессу, приезжает
снова, чтобы через 30 лет показать этот город сыну? Почему так
пронзительна боль Владимира Жаботинского, знавшего, что ему уже никогда
в этой жизни не видать родного города:
«Вероятно, уже никогда не видать мне Одессы.
Жаль, я ее люблю. К России был равнодушен всегда…Но Одесса – другое
дело: подъезжая к Раздельной, я уже начинал ликующе волноваться… Если бы
можно было, я бы хотел подъехать не через Раздельную, а на пароходе;
летом, конечно, и рано утром. Встал бы перед рассветом, когда еще не
потух маяк на Большом Фонтане; и один одинешенек на палубе смотрел бы на
берег…Помню ли еще здания, которые видны высоко на горе?..
Направо стройная линия дворцов вдоль бульвара – не помню видать ли их с
моря за кленами … но последний Воронцовский дворец с полукруглым
портиком над сплошно зеленью обрыва.
И лестница, шириной в широкую улицу, двести низеньких барских ступеней;
второй такой нет, кажется на свете.
И над лестницей каменный Дюк – протянул руку и тычет в приезжего
пальцем: меня звали дю-Плесси де-Ришелье – помни, сколько со всех концов
Европы сошлось народов, чтобы выстроить один Город…». (3)
Так, в чем же все-таки колдовство?
Почему даже премьер-министр
Франции – герцог Арман дю-Плесси де-Ришелье, бывший по редкой
случайности первым градоначальником Одессы, продолжал и в Париже в
зените славы тосковать по этому «волшебному городу», мечтал вернуться и
писал своим одесским друзьям:
« Ни время, ни бурные события не в силах были заставить меня забыть
Одессу. Сей волшебный город манит меня постоянно, и я не могу уже более
противиться этому. Да и зачем?».
Какая щемящая тоска…
Так не тоскуют по городу. Так тоскуют по любимому человеку.
Ах, так вот в чем заключается колдовство!
Вот откуда она, эта странная магическая сила!
Это любовь! Одесса с самого дня ее рождения была окутана любовью. Одесса – это плод любви.
Плод любви
Правда ли это, или красивая сказка, но Одесса – это плод любви.
Плод любви мужчины и женщины, двух замечательных и очень неординарных людей. Может быть «скоротечной», может «запретной», может быть чем-то «неправильной», но…
Но, кто дал право нам, смертным, судить Любовь?
Любови бывают разные: одна взовьется, шутихой, криком страсти прорежет ночное небо, осветит все вокруг и… погаснет. Другая - жестокая, как лесной пожар, сметающий все на своем пути, отгорев, оставит после себя лишь выжженные сердца и души. А есть и такая, что тлеет всю жизнь, как угли домашнего очага, согревая своим теплом обитателей этого счастливого дома.
Какая из них «правильная»? Какая «запретная»?
И плоды у этих любовей разные, и это не обязательно «чудо великое дети». Плодом любви может быть и божественная музыка, и талантливая книга. Плодом любви может быть … город.
Итак, факты, подернутые легким флером сказки.
1768 год. Российский Балтийский флот, изрядно потрепанный после тяжелого перехода вокруг Европы, бросил якорь в итальянском порту Ливорно. И пока на кораблях шел ремонт, командующий флотом, граф Алексей Орлов - родной брат Григория Орлова - фаворита российской императрицы Екатерины II - с приятностью проводил время в Неаполе, во дворце короля Фердинанда IV, который в угоду молодой жене - Марии-Каролине - превратил жизнь своего дворца в непрерывный праздник. Обеды, балы и пикники сменяли друг друга, путая дни и ночи.
Граф Алексей пришелся здесь, что называется, «ко двору». Он подружился с королем и свел знакомство с его придворными, среди которых блистали королевский министр иностранных дел дон Мигель де Рибас-и-Бухонс и его сын, 17-летний юноша, почти мальчик дон Хосе де Рибас.
Об этом мальчике у нас и пойдет речь.
Так как именно он, этот мальчик, когда придет время, станет основателем нашего города, нашей Одессы.
Дон Хосе де Рибас, испанец, родившийся под солнечным небом Неаполя, не только был необычайно хорош собой, но и прекрасно образован: он знал шесть европейских языков, был сведущ в математике, навигации и многих других науках, что по тем временам случалось не часто. Острый аналитический ум юноши удачно сочетался с каким-то редким умением очаровывать людей. Так он, видимо, очаровал и графа Орлова и, несмотря на разницу в возрасте - Орлову было в те дни уже 32 - стал его другом.
Эта встреча и эта дружба изменили судьбу и Орлова, и де-Рибаса.
В те дни уже шла русско-турецкая война, и граф Орлов, отправляясь в Эгейское море на битву с турецким флотом, взял с собою Хосе, переведя его из Самнитского пехотного полка, куда по традиции он был приписан, на русский флот.
Четыре года будет длиться эта война – де Рибас и Орлов проведут их вместе. Вместе будут участвовать в боях, вместе бражничать в минуты отдыха. Но, наконец, в июле 1774-го будет подписан Кючук-Кайнаджирский мир, и Балтийский флот, который отныне будет именоваться Черноморским, возвратится в Италию. Возвратятся в Неаполь и наши старые знакомые: граф Алексей Орлов и дон Хосе де Рибас.
Но почему граф Орлов, вместо того, чтобы отправиться в Россию и насладиться там причитающимися ему, герою Чесменского сражения, почестями, прибыл в Италию?
Напомним: Алексей – один из пяти братьев Орловых – участников заговора по захвату трона для будущей императрицы Екатерины II. Именно он, Алексей, человек необычайной силы, способный остановить на скаку шестерку лошадей, по приказу Екатерины убил ее мужа императора Петра III, да и впоследствии продолжал выполнять различные «деликатные» ее поручения. Вот и на этот раз ему дано весьма деликатное поручение.
В эти дни в Европе объявилась молодая женщина, некая княжна Тараканова, которая выдает себя за дочь покойной императрицы Елизаветы и выдвигает претензии на российский трон. Эта странная история очень тревожит Екатерину, тем более, что самозванка (или не самозванка?) пользуется поддержкой нескольких европейских королевских дворов.
Екатерина приказывает Орлову: изловить Тараканову.
И граф, конечно, выполнил этот приказ: влюбил в себя несчастную женщину, заманил ее на свой корабль, арестовал и доставил в Петербург, где она была заключена в Алексеевский равелин Петропавловской крепости и вскоре ушла из жизни - то ли заболев чахоткой, то ли захлебнувшись в водах Невы во время наводнения.
Принимал ли участие де Рибас в пленении княжны Таракановой?
Спорный вопрос. Многие историки, в том числе и Александр де Рибас (внучатный племянник Хосе), отвергают это предположение. И утверждают, что де Рибас, прибыв из Италии вместе с графом Орловым, доставил в Петербург не Тараканову, а внебрачного сына Екатерины – 10-летнего Алешу Бобринского, который воспитывался в Лозанне. (5)
Для нашей истории этот вопрос не так уж и важен. Да и вряд ли доставка в Россию царственного отрока могла быть поручена 24-летнему чужестранцу. Скорее всего, приказ доставить Бобринского получил его дядька - Алексей Орлов, а де Рибас, находившийся при графе, просто помогал ему.
Так, или иначе, но в конце 1775-го дон Хосе де Рибас вместе с графом Орловым прибыл в Петербург и был представлен императрице Екатерине. Да неужели это возможно?
Никому не известный чужестранец - «гишпанец», да еще, видимо, с примесью еврейской крови (говорят, что отец его и-Бухонс был мараном), представлен российской императрице? (6)
Оказывается, возможно. Если за дело берется такой прожженный аферист, как граф Алексей Орлов. Зная влюбчивость Екатерины, хитрый граф решил «подставить» ей де-Рибаса, насолив этим Потемкину - новому официальному фавориту императрицы.
Афера Орлова удалась! Как оказалось, это был удачный момент для знакомства будущих любовников. Екатерина уже оправилась от родов последней своей дочери Лизаветы Темкиной, отцом которой был Григорий Потемкин. Между тем отношения с ним самим у нее как-то разладились, и всесильного фаворита в те дни в Петербурге не было – он отправился на ревизию в Новгородскую губернию. Так что Екатерина, не привыкшая проводить свои ночи в одиночестве, была свободна для новой любви.
И тут… И тут перед ней предстал неотразимый «гишпанец»!
И Екатерина не смогла отвести от него глаз.
Современник Хосе де Рибаса, лорд Байрон, не случайно выбрал его прототипом героя своего бессмертного романа в стихах «Дон Жуан», имя которого стало нарицательным для всех любителей и любимцев женщин. Де Рибас, действительно, был неотразим. Женщины всех возрастов и всех сословий, не раздумывая, падали в его объятия. Байрон так описывает впечатление, которое он произвел на Екатерину (7):
«Екатерина всем понять дала,
Что в центре августейшего вниманья
Стал лейтенант прекрасный …».
А де Рибас? Какое впечатление императрица произвела на него?
«А он? Не знаю, полюбил ли он,
Но ощутил тревожную истому
И был, что называется, польщен…
Ее улыбка, плавность полноты
И царственная прихоть предпочтенья…
Ее живое, сочное цветенье –
Все это вместе, что и говорить,
Могло мальчишке голову вскружить…».
Ему, как сказано, 24. Она на 22 года старше – ей 46.
Но, что из этого? Она влюбилась.
И он, как многие другие, до и после него, не смог устоять.
А дальше произошло нечто невероятное: граф Алексей Орлов – главное действующее лицо всей этой истории, герой войны, доставивший в Петербург и княжну Тараканову, и Алешу Бобринского, стал вдруг ненужным свидетелем. Орлова отправили в отставку, и он отбыл в свое подмосковное имение, где будет до самой смерти, сетуя на непостоянство монаршей милости, разводить орловских рысаков.
А мальчишка «гишпанец» в одночасье стал чуть ли не самой важной персоной в Петербурге. Он получил чин майора российской гвардии, огромное жалование, право ношения военного мундира, и престижный пост воспитателя Алеши Бобринского в Шляхетском кадетском корпусе, где будет учиться отрок. А еще, и это, наверное, самое главное, Екатерина самолично вручила ему высшую награду Мальтийского ордена - восьмиконечный Большой Крест Святого Иоанна Иерусалимского, подаренный ей Великим Магистром.
И весь этот «дождь благодеяний» пролился на голову Иосифа Дерибаса, как теперь будут называть Хосе, в один запомнившейся ему на всю жизнь день (или ночь?) – 21 апреля 1776 года, когда во дворце был большой бал в честь дня рождения императрицы.
Правда сам Мальтийский крест (или право носить его?) он получит лишь через два с лишним года. Скорее всего – это был срок, определенный конституцией Папы Бенедикта XIV для «послушничества» перед посвящением в рыцари Мальтийского ордена. Значит ли это, что Дерибас был посвящен в рыцари?
Да, именно так. Дерибас, действительно, успешно прошел весь срок «послушничества». Доказал, как было положено, знатность своего рода, и, получив специальное разрешение Великого Магистра, в котором нуждался, как человек, имевший в своем роду (страшно подумать!) евреев, стал Рыцарем Справедливости Мальтийского ордена. И этот незаслуженно забытый историками факт сыграл непростую роль в его судьбе.

Основатель Одессы дон Хосе де Рибас.
На груди его сияет Мальтийский крест.
Итак – 21 апреля 1776 года …
Запомним эту дату! Через девять месяцев после этого счастливого дня (или ночи!) императрица Екатерина II родила еще одного ребенка – сына, которого нарекли Иосиф Сабир. Обратите внимание на фамилию «Сабир» – это «слово-перевертыш». При обратном прочтении оно звучит как «Рибас».
Дерибас никогда не отказывался от своего сына. Но то, что матерью мальчика является императрица, тщательно скрывалось.
Мы почерпнули эту интересную информацию из работ известного одесского краеведа Анатолия Горбатюка, а он, в свою очередь, пользовался случайно попавшей в его руки уникальной рукописью ныне покойного протоирея Берлинского Воскресенского кафедрального собора Сергея Положенского, кстати, видимо, одного из потомков Дерибаса. В этой рукописи приводится примечательный разговор, состоявшийся в 1790 году между Дерибасом и Потемкиным. Дерибас просит принять на военную службу своего 13-летнего сына Иосифа Сабира. Потемкин интересуется матерью отрока. И Дерибас, ничуть не смущаясь, отвечает: «Мать Иосифа императрица Екатерина!».
Говорят, что светлейшего князя чуть удар не хватил.
Не знал он этого что ли?
Положенский считает, что материнство Екатерины скрывали, поскольку опасались ревности жены Дерибаса - Анастасии.
Но, видимо это неверно. Камер-фрейлина императрицы Анастасия, 36-летняя старая дева, которую Екатерина выдала замуж за Дерибаса 27 мая 1776 года – всего через месяц после того памятного бала в честь дня рождения, просто не могла не знать о любви этих двух.
Об этой любви знали все! А уж Анастасия, которую современники характеризуют, как очень хитрую, много повидавшую на своем веку особу – кладезь всех дворцовых сплетен и слухов – несомненно, была в курсе. Но вряд ли имела право ревновать. Дерибас никогда не жил с ней под одной крышей, а после принятия им обета рыцарства их отношения и вовсе стали формальными. Ведь Рыцарь Справедливости Мальтийского ордена давал обет целомудрия и посему не только не мог быть женат, но и не имел права держать в своем доме женщину – родственницу или невольницу – моложе пятидесяти лет. Кстати сказать, на любовь вне брака и вне стен дома этот обет, к счастью, не распространялся.
Так, почему же все-таки материнство Екатерины скрывалось?
Осмелимся высказать предположение.
В июне 1775-го Екатерина, как сказано, родила дочь от Потемкина, а в феврале 1777- сына от Дерибаса. Двое детей за два года от двух разных мужчин, ни один из которых не являлся ее официальным мужем…
Неудобно! И перед собственным народом и перед всем просвещенным миром, к которому императрица, считавшая себя ученицей самого Вольтера, желала принадлежать. Тем более неудобно, что отец ее сына, чужестранец, на 22 года младше ее. Так что, ничего не поделаешь, Сабира пришлось скрыть.
А любовь? Любовь – это совсем другое дело. Любовь можно простить. Ведь простили же ей десятка два официальных фаворитов, и не счесть, сколько тайных?
Екатерина была великой во всем, и милость ее к людям, которых любила, не знала предела.
«Екатерина, следует сказать,
Хоть нравом и была непостоянна,
Любовников умела поднимать
Почти до императорского сана.
Избранник августейший, так сказать,
Был только по обряду невенчанный
И, наслаждаясь жизнью без забот,
О жале забывал, вкушая мед».
И Дерибаса она осыпает подарками - жалует ему имение в Полоцкой губернии и 800 душ крестьян, становиться крестной матерью двух его дочерей, дарит шпагу, украшенную брильянтами, присваивает чины и награждает орденами.
«Лукавые заморские послы
Осведомлялись – кто сей отрок новый,
Который пробирается в орлы,
(Намек на бывшего фаворита Григория Орлова!)
Которому уже почти готовы
И должности, и пышные хвалы,
И награждений дождь многорублевый,
И ордена, и ленты, и к тому ж
Дарения десятков тысяч душ.
Она была щедра, любовь такая
Всегда щедра!..».
Но … пришло время, и, как это часто бывало у Екатерины, страсть ее к неотразимому Дон Жуану погасла. Вместе с тем, хотя фавориты всякие разные – официальные и не официальные - сменяли один другого, дружеское расположение (или любовь?) ее к Дерибасу оставалась неизменной. По словам внучатного племянника нашего героя, даже в последние годы жизни императрицы Дерибас все еще принадлежал к числу ее самых близких друзей и, бывая в Петербурге, непременно присутствовал за ее столом на интимных обедах и ужинах.
Но еще до этого печального времени Екатерина сделала Дерибасу самый дорогой свой, действительно царский подарок: она подарила ему… город!
27 мая 1794 года.
В этот день вышел Высочайший указ императрицы, в котором предписывалось Гаджибею быть городом: «Уважая выгодное положение Гаджибея при Черном море и сопряженные с оным многия пользы, повеливаем мы нужным устроить тамо военную гавань купно с пристанью для купеческих судов…».
«Главным устроителем» города назначался генерал-майор Иосиф Дерибас и он же для этой цели получал из царской казны 26 тысяч рублей золотом.
27 мая 1794 года. Самый счастливый день жизни Дерибаса и самый печальный день…
Ведь именно в этот день, 18 лет назад - 27 мая 1776-го – всего через месяц после того памятного бала в честь дня рождения императрицы, 25-летний Хосе Де-Рибас, только что прибывший в Петербург, вынужден был жениться на вздорной женщине, с которой едва был знаком.(8)
Похоже, что ни Дерибас, ни Екатерина не забыли эту печальную дату. Похоже, что императрица подарила Дерибасу город именно в этот день, чтобы «замолить» свой тогдашний грех - вымолить прощение у отданного на заклание прекрасного юноши, который пошел на ненавистную ему женитьбу только ради нее, Екатерины, чтобы погасить слухи о ее «запретной» любви.
С тех пор прошло 18 лет. Он жил все эти годы так, как хотел.
Сражался и побеждал. Любил многих женщин. Не зря же именно его выбрал Байрон на роль Дон Жуана?
По-своему любил Екатерину, да и она по-своему любила его.
И вот теперь Высочайший указ превратил этот день, 27 мая, в самый счастливый день его жизни: Гаджибею быть городом!
Гаджибей…
В ночь на 14 сентября 1789 года Диребас с горсткой преданных ему запорожских казаков штурмом взял эту турецкую крепость.
Хиленькая, надо прямо сказать, была крепостица. Мрачные развалины замка на обрывистом морском берегу, несколько домиков, разбросанных по голой степи, кофейня грека Аспариди, где можно выпить чарку кипрского вина, и гарем турецкого коменданта крепости Ахмет-паши. Гарем, как видно, особенно пришелся по вкусу победителям (рыцарям и не рыцарям!) – ведь не случайно при археологических раскопках одесские краеведы нашли на месте, где был гарем, железную поясную пряжку от штанов солдата (или офицера?) доблестной российской армии.
Крепостица то хиленькая, но … расположение: у самого-самого синего Черного моря!
Значение Хаджибея для России можно сравнить только со значением Петербурга. Император всероссийский Петр I основал Петербург и открыл для России окно в Европу, а он, Дерибас, на месте Хаджибея построит город и даст ей выход на Черное море.
«Здесь будет город заложен…
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно;
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам…».
А.С. Пушкин «Медный всадник».
Именно так! Именно так! Ногою твердой стать при море.
Гордости Дерибаса нет предела.
Он верит, что новый город прославит его в веках, и только не знает, что
этот город, вкупе с подаренным ему императрицей Мальтийским крестом,
станут причиной его трагической ранней смерти.
22 августа 1794 года.
В этот знаменательный день с благословения Митрополита Екатеринославского и Таврического Гавриила генерал-майор Иосиф Дерибас, заложив медный «пятак» с вензелем императрицы Екатерины II под кирпичный фундамент дома князя Волконского - первого дома нового города, опорожнил бокал вина и тут же с размаху разбил его о камни - на счастье!
Так родился наш город, имя которому О-дес-с-а!
Говорят, что это ласковое женское имя выбрала сама матушка Екатерина в честь героя древнегреческих мифов хитроумного Одиссея, посетившего в своих долгих странствиях эти края.
И тогда же, в жарком августе 1794-го были заложены фундаменты малого и большого мола, набережной, таможни, карантина, госпиталя …
Из ничего создавался город! Но у судьбы свои жестокие законы, и она, поскупившись, отмерила Дерибасу для счастья созидания чуть больше двух лет.
В ноябре 1796-го умерла императрица Екатерина II.
Императором стал ее сын Павел.
Мать и сын… Величественная почти гениальная мать и щупленький инфантильный, а многие считают, что даже слабоумный, сын. Павел ненавидел мать, узурпировавшую, фактически его престол после убийства отца Петра III, в чем он тоже, и не без основания, подозревал Екатерину. И, теперь, дождавшись ее смерти и став, наконец, в 42 года российским императором, с каким-то дьявольским удовольствием разрушал все, что имело к ней какое-нибудь отношение, все, что она любила, все, что было ею создано. Так он сразу же обратил свой недобрый взор на Одессу и на Дерибаса.
Обделенный материнской любовью, изгнанный из Петербурга в Гатчину, Павел мучительно ревновал Екатерину к этому, своему ровеснику, годившемуся императрице в сыновья. В Дерибасе его бесило все, все то, что не было дано ему, Павлу, все то, что привлекало императрицу: и красивое лицо, и гордая осанка, и уверенность в себе, и, наверное, невероятный подарок Екатерины – сияющий восьмиконечный Мальтийский крест на груди.
Так что, вскоре, после вступления на престол, 26 декабря 1796 года, император упраздняет созданную императрицей Комиссию строения южных крепостей и одесского порта и снимает с поста главного устроителя нового города Дерибаса. А 10 января следующего 1797года по приказу императора Дерибас покидает Одессу и на подаренном в свое время матушкой Екатериной знаменитом ее дорожном возке, «украшенным црицыным гербом», едет в Петербург. Едет навстречу своей смерти!
Нет, нет, он, конечно, пока не знает об этом. Напротив - настроен по боевому. Ведь его имя дон Хосе де-Рибас!
Всю жизнь он преданно служил России. Он покоритель Измаила и многих других больших и малых вражеских крепостей. Кавалер российских орденов. Сама императрица Екатерина Великая пожаловала ему Большой крест Мальтийского ордена.
И еще, и еще, и еще. Павел, так его, пере так (Дерибас при всей его утонченности был непревзойденным мастером нецензурной солдатской лексики!), заплатит за все нанесенные ему обиды.
Подумаешь, император, так его, пере так!
Если возможно было убрать с дороги императора Петра III, то почему бы не сделать это с его слабоумным сыном? По прибытии в Петербург, Дерибас начинает смертельную игру – заговор, и назовем уже вещи своими именами, заговор по убийству императора Павла I. К осуществлению своего плана он привлекает нескольких абсолютно надежных и преданных людей – близких друзей. В первую очередь генерал-майора Никиту Петровича Панина, родного племянника незабвенного графа Никиты Ивановича Панина, бывшего в течение многих лет наставником цесаревича Павла, и, кстати, одним из участников убийства Петра III, а также генерала от кавалерии хитрейшего графа фон дер Палена – военного губернатора Петербурга. Оба они без колебаний выразили желание участвовать в убийстве императора.
Все шло отлично, и вдруг …
И вдруг, неожиданно, без всякой видимой причины отношение Павла к Дерибасу меняется. Бывшему любовнику императрицы возвращены все регалии, присвоены новые титулы и даже, как будто бы взамен на отобранную Одессу, поручено строительство укреплений Кронштадта.
В то же время изменилось отношение императора и к Одессе. В январе 1800-го Павел возвратил городу все дарованные Екатериной, а затем отобранные им льготы и выделил из казны еще 250 тысяч рублей золотом. Любопытно, что эта сумма почти в десять раз больше той, дарованной в свое время Екатериной - значит, несчастный Павел, даже став императором, все еще продолжает «состязаться» со своей покойной великой матерью.
Но почему же, все-таки император изменил свое отношение к Одессе? Более 200 лет одесситы рассказывают байку о том, как им удалось «растопить железное сердце императора» с помощью необычного подарка: в Петербург к царскому столу был отправлен ящик импортных «апельсиновых фруктов».
Ну, не смешно ли это?
Что бы там ни говорили, но император Павел I был достаточно образованным человеком. Он владел многими иностранными языками, прекрасно говорил на немецком, и французском, выезжал за границу. Однажды, под именем графа Северного, он более двух лет провел в Европе. Посетил Францию и Германию, Австрию, Швейцарию, Швецию. Польшу, проехал всю Италию. В Париже вместе с супругой обедал за столом короля Людовика XVI, а в Венеции в его честь был устроен карнавал на площади Сан-Марко.
Так неужели за все это время во дворцах королей и дожей ни разу не пробовал он апельсин? Ну, хорошо, допустим.
А как же тогда все эти иностранные послы, аккредитованные в Петербурге? Как же все эти гонцы, мчавшиеся со всех концов Европы? Неужели ни один из них никогда не привозил в холодную Россию «к царскому столу» экзотические плоды цитрусов? Ведь привезти апельсины из Италии было значительно быстрее и легче, чем из Одессы - две тысячи километров, по бездорожью.
Нет, нет красивая «оранжевая» байка, к сожалению, не выдерживает проверки логикой. Неожиданная милость императора имеет иные серьезные и глубокие причины.
Вернемся на тридцать лет назад, в 1760 год.
Цесаревичу Павлу исполнилось 6 лет. Вместо мамок и бабок, к нему приставлен воспитатель - блестящий российский дипломат граф Никита Иванович Панин. Человек исключительно умный и образованный, большой знаток литературы, истории, философии, Панин был, как и многие просвещенные люди того времени, масоном. И так уж случилось, что цесаревич с самого раннего возраста жил в атмосфере мистики, легенд о Святой земле, древнем граде Иерусалиме, Крестовых походах и благородных рыцарях – духовной предтече масонов.
Один из младших воспитателей Павла однажды сделал в своем дневнике такую запись: «Читал Его Высочеству историю ордена Мальтийских кавалеров. Изволили потом забавляться… представляя себя кавалерами Мальтийскими…».
Цесаревичу было в те дни уже 11 лет и, играя «в рыцарей», он даже прилаживал себе на грудь сделанный из бумаги восьмиконечный Мальтийский Крест. А книга, о которой шла речь - это «История ордена Святого Иоанна Иерусалимского», изданная в 1724 году аббатом Верто.
С течением времени детское увлечение Павла не прошло, как это часто бывает, а только усилилось. Он окружал себя атрибутами Мальтийского ордена и даже приказал построить в парке Гатчинского дворца на Длинном острове некое подобие храма – круглую беседку, названную им «Темпл» и содержащую набор странных архитектурных элементов, понятный только посвященным. И можно представить себе, как бесил его Мальтийский Крест, подаренный Екатериной, не ему, мечтавшему об этом кресте с детства, а Дерибасу.
Однако, в те дни, когда униженный императором Дерибас прибыл в Петербург и занялся организацией заговора, сам император уже не думал ни о старых обидах на мать, ни о мести ее любовнику. Он был близок, как никогда, к осуществлению своей детской мечты: он сам был недавно посвящен в рыцари, и со дня на день должен был стать протектором Мальтийского ордена.
Это знаковое событие произошло 29 ноября 1797 года, когда в Петербург прибыл, собственной персоной, чрезвычайный посол ордена граф Джудио де Лита. Парадный экипаж посла, окруженный гвардейцами, торжественно проследовал по запруженным народом улицам столицы в Зимний дворец. В тронном зале дворца на золоченном троне Екатерины восседал император Павел I, с древней российской короной на голове. У ног его стояли придворные и высшее православное духовенство во главе с митрополитом Гавриилом. Граф де Литта вошел в зал в сопровождении трех уважаемых кавалеров ордена. Они несли на парчовых подушках часть десницы Святого Иоанна, Большой Мальтийский Крест на золотой цепи и рыцарскую кольчугу. Сделав три глубоких поклона, граф произнес приветственную речь на французском и передал императору просьбу Главного капитула стать покровителем ордена. Павел поблагодарил посла за оказанную ему честь и … взяв дрожащими руками с парчовой подушки цепь с Мальтийским Крестом, надел ее на себя.
Свершилось! Теперь у него на груди будет вечно сиять вожделенный восьмиконечный Мальтийский Крест.

Российский император Павел I
с Мальтийским Крестом на груди
Павел с радостью включился в необычайно притягательную для него игру Мальтийских рыцарей и часто участвовал в их средневековых ритуалах в бывшем дворце графа Воронцова на Садовой. А в ноябре 1798-го, после того, как по пути в Египет Наполеон высадился на Мальте и выгнал рыцарей с острова, Главный капитул нашел прибежище в России, и российский император был провозглашен 70-м Великим Магистром ордена.
Теперь Павел часто встречался с Рыцарем Справедливости Дерибасом. Теперь он видел в Дерибасе не чужестранца - любовника своей матери, не юношу, отнимавшего у него когда-то материнскую любовь, но благородного рыцаря Мальтийского ордена, овеянного славой боев с неверными. Он мог часами слушать его рассказы о морских сражениях, об осаде вражеских крепостей, о блистательных победах и непереносимых поражениях, о жизни и смерти. Он осыпал своего нового друга милостями и, в конце концов, 8 мая 1799-го, пожаловал ему чин полного адмирала.
А как же заговор? Как же подготовка к убийству?
Подготовка к убийству продвигалась медленно, или, можно сказать, совсем не продвигалась. И, самое удивительное, что именно Дерибас делал все возможное, чтобы запущенная им самим адская машина убийства застопорилась.
А, впрочем, что же здесь удивительного?
Ведь Дерибас был Рыцарем Справедливости, одним из главных обетов которого, кроме «безбрачия» и «бедности», был обет «послушания и подчинения».
Мог ли Дерибас нарушить этот обет?
Мог ли он поднять руку на Великого Магистра?
Нет, и еще раз, нет! Убийство императора нужно было предотвратить. Великого Магистра нужно было спасти!
И это должен был сделать он - Рыцарь Справедливости…
Вот почему Дерибас делал все возможное, чтобы адская машина убийства застопорилась. Но это никак не устраивало заговорщиков, особенно молодых амбициозных генералов Панина и Палена. Дело осложнялось тем, что в заговоре был замешен английский посол сэр Уайтворт: в Лондоне не только знали о готовящемся убийстве, но и способствовали ему, снабжая заговорщиков золотом. И это еще не все: в убийстве императора, как оказалось, были заинтересованы масоны, давние друзья, возлагавшие на Павла большие надежды и разочарованные в своих ожиданиях.
Убийство императора давно бы произошло, если бы …
Если бы заговорщикам не мешал Дерибас.
Между тем, император, как видно, узнал о заговоре. Но, будучи уверен, что все его нити в руках Рыцаря Справедливости, не опасался и даже позволял себе шутить. Известно, что 2 ноября 1800 года Павел, забавляясь, поинтересовался у Палена на утреннем докладе, известно ли ему, губернатору Петербурга, о существовании «заговора». Пален побелел, но, не утратив самообладания, отшутился. Однако дело явно шло к развязке – заговорщики были преданы, и преданы, скорее всего, Дерибасом
К тому же, 12 ноября 1800 года Дерибас назначен был личным докладчиком императора по делам Адмиралтейства и мог входить к нему кабинет любое время. Так что судьба Дерибаса была решена.
30 ноября 1800 года Дерибас внезапно … заболел.
Вроде, ничего серьезного, так легкое недомогание, но…
Но, через два дня, 2 декабря 1800 года в пятом часу утра этот 49-летний, полный сил человек скончался.
Сегодня можно с уверенностью сказать - Дерибаса убили.
Скорее всего, отравили: присланный Паленым его личный лекарь потчевал Дерибаса всякими микстурами, а сам граф двое суток не отходил от постели «больного друга».
Итак, смертельная игра, затеянная Дерибасом, закончилась для него самого смертью.
Одесса становится Одессой
Дерибаса не стало. Одесса осиротела.
И кто знает, как сложилась бы судьба нашего города, и наша собственная судьба, если бы 9 марта 1803 года в Одессу неожиданно не прибыл … градоначальник. Вот тебе раз!
Но давайте уж все по порядку…
Дерибаса не стало. И теперь ничто не мешало заговорщикам осуществить то, чудовищное, что было задумано когда-то оскорбленным Рыцарем Справедливости, и им же впоследствии с риском для собственной жизни, приостановлено.
Около трех месяцев ушло на подготовку, и в темную ночь, с 11 на 12 марта 1801 года, российский император Павел I был убит.
Часы пробили двенадцать, и с их последним ударом несколько самых близких Павлу людей вошли в его спальню в Михайловском замке и просто забили императора насмерть. По одной из версий, последний смертельный удар был нанесен ему тяжелой золотой табакеркой в висок, по другой - его придушили подушкой.
Весть о кончине Павла принес его сыну и наследнику цесаревичу Александру под утро Никита Петрович Панин. В этот ранний час 23-летний наследник, знавший (или не знавший!) о готовящемся убийстве, почему-то не спал, и даже не готовился ко сну – сидел в одиночестве в своем кабинете и горько плакал. Панин не ожидал, видимо, увидеть такую картину, и позволил себе повысить голос на наследника: «Извольте править!»,- выкрикнул он фальцетом.
Александр вытер слезы и стал «править». И правил в течение следующих 25 лет совсем неплохо. Воспитанный своей великой бабкой Александр I возобновил многие ее начинания, и в частности, принял решение ускорить строительство Одессы. С этой благой целью он назначил градоначальника - своего давнего знакомца, французского эмигранта, графа де Ришелье. (9)
Что так? Неужели перевились все российские сановники (сегодня сказали бы «функционеры»), алчущие высоких назначений?
Нет, конечно. Но Одесса – две тысячи километров от Петербурга, глухомань, бескультурье, ни балов, ни «маскератов», да и жалование не ахти…
Кому захочется? Желающих не было…
А Ришелье? Ну, это сегодня он выглядит таким блистательным и хрестоматийным – еще бы глава величайшего государства Европы – премьер-министр правительства короля Людовика XVIII!
А тогда, в 1803-м? Безвестный камергер погибшего на эшафоте Людовика XVI, бежавший из истекающей кровью Франции.
Да, конечно, аристократ, из очень древнего и знатного рода, потомок легендарного кардинала де Ришелье. Да, конечно, владелец огромного родового поместья и, наверное, очень богатый человек. Но все это там - во Франции.
А здесь, в России? Ни родственников, ни друзей, ни крыши над головой – гол, как сокол. Хорошо еще, что молодой император Александр I, товарищ по службе в Кирасирском лейб-гвардии полку в Гатчине, предложил ему пост градоначальника.
Он, конечно, слышал об этом городе-порте на Черном море.
И с основателем его, покойным адмиралом Дерибасом, был знаком - служил под его началом в 1790-м под Измаилом. Так что, возможность стать градоначальником Одессы, в каком-то смысле, наследником Дерибаса. таила в себе некоторую привлекательность. И Ришелье поехал в Одессу.
Нет, конечно, не так, как когда-то путешествовал Дерибас – в удобном спальном возке императрицы Екатерины, на собственных отличных лошадях, с огромным багажом, многочисленными слугами и преданными адъютантами. У Ришелье в те дни не было ни собственного экипажа, ни слуг, ни адъютантов. Он поехал один, с одним потрепанным чемоданчиком, на почтовых.
Итак, 9 марта 1803 года, после долгого изнурительного пути, первый градоначальник города – Арман Эммануэль де Виньеро дю Плесси, граф де Шиньон, герцог де Ришелье - прибыл в Одессу.
Непокорная каштановая шевелюра, черные, немного печальные глаза, благородный овал смуглого лица, нос с горбинкой, своенравный изгиб губ – он был красив, этот высокий 37-летний француз, в удивительно чистом русском языке которого так неожиданно звучало грассирующее «эр-р».

Герцог де Ришелье
В тот мартовский день, когда почтовая карета привезла Ришелье в Одессу и остановилась на покрытом толстым слоем грязи пустыре, считавшемся центральной площадью города, картина, представшая его глазам, поразила герцога. Круто сбегающий к морю голый скалистый обрыв, несколько сот жалких жилых строений и сооруженная наспех «от монарших щедрот» маленькая деревянная церквушка Николая Мирликийского … а дальше, на север, до самого горизонта – бескрайняя степь. Нет, не такой Ришелье представлял себе Одессу. Не такой она виделась ему в мечтах, в полудреме изнурительного пути под скрип колес раздолбанной почтовой кареты. Герцог был потрясен. Куда занесла его судьба?
И тут, наверное, произошло чудо!
В ту самую первую минуту, когда Ришелье, распахнув дверцу кареты, спрыгнул в жидкую грязь пустыря, это гиблое, на первый взгляд, место, покорило герцога. В ту самую первую минуту, когда глазам его явилась необозримая бирюзовая даль моря, а обласканного весенним солнцем лица коснулся ветер, напоенный ароматом степных трав, Ришелье полюбил это гиблое место. И, кажется, что именно в ту, самую первую, минуту он принял решение сделать это гиблое место «жемчужиной».
Итак, 9 марта 1803 года герцог де Ришелье прибыл в Одессу.
Пришлось начинать все с нуля, и, прежде всего, позаботиться о крыше над головой. Дюк, как фамильярно стали звать его одесситы (да и мы с детства привыкли так его называть), с большим трудом нашел себе хиленький одноэтажный домишко, который станет «дворцом градоначальника».
Во «дворце», несмотря на малые его размеры, Ришелье жил не один. Здесь в пяти тесных комнатах разместились (не очень, правда, понятно, как?) несколько прибывших вскоре в Одессу иностранных послов, три адъютанта и выживший из ума глухой старик аббат Лабдан - воспитатель герцога, которого, Ришелье любил, как отца.
Женщин не было в этом странном доме, точно так же, как не было их некогда в доме Дерибаса. Жена Ришелье, уродливая горбунья Розалина-Сабина де Рошешуар, с которой когда-то в 16 неполных лет он был обвенчан, жила в Париже, а связей с другими дамами (света и полусвета) у него, видимо, не было.
Почему? История об этом деликатно умалчивает.
Промолчим и мы.
Все свое время Дюк отдавал городу, его жителям и многочисленным гостям – купцам и вояжерам, которые со всех концов стали стекаться в Одессу, когда слава об этом городе и его необыкновенном градоначальнике облетела Европу.
Дюк был действительно необыкновенным человеком. День его был расписан до мелочей - по утрам он принимал посетителей, объезжал город и порт, заглядывал в острог, заходил в мелочные лавки, останавливал на улице прохожих и расспрашивал их о житье-бытье, а по вечерам сиживал в «кофейном заведении» и посещал вечеринки в частных домах. Иногда он и сам «давал балы и маскераты». В этом ему помогал неистощимый на выдумки один из его адъютантов, брат горбуньи-жены – граф Луи де Рошешуар.
Но, самым главным делом его было, конечно, строительство города и порта. И вот уже по плану, начертанному мастерской рукой соратника Дерибаса военного инженера полковника Франца де Волана, проложены первые прямые широкие, открытые всем ветрам улицы – Дворянская и Гимназическая, та, которая будет названа Дерибасовской, и станет, по меткому выражению Жаботинского, «королевой всех улиц мира». И вот уже Тираспольская застроена зерновыми складами и хлебными магазинами, на Ремесленной поселились приглашенные из Германии немцы-ремесленники, а в окрестностях города, на землях, купленных Дюком у графа Потоцкого, основаны первые поселения немцев-колонистов – Гросс и Кляйн Либенталь.
И вот уже на месте того самого пустыря, на котором когда-то остановилась привезшая Дюка в Одессу почтовая карета, красуется Соборная площадь – «Соборка» нашего детства. А вместо маленькой деревянной церквушки Николая Мирликийского, радует глаз красавец Преображенский собор. Насажены сады, устроена набережная (которая станет сначала Николаевским, а затем и нашим Приморским бульваром), построена гостиница, больница, коммерческая гимназия, «биржевая зала», благородный институт (который станет сначала Ришельевским лицеем, а впоследствии - Новороссийским университетом).
И вот уже более 500 иностранных судов ежегодно бросают якоря в новом одесском порту. Они привозят в город невиданные заморские ткани, диковинные фрукты – апельсины, бананы, привозят кофе, табак, халву и рахат-лукум. И уходят нагруженные пшеницей, кожей и костью, мясом и рыбой, шерстью и солью.
А в 1808-м из Парижа, Неаполя, Афин и Стамбула в Одессу прибыли иностранные послы. Как видно, те самые, которых Ришелье по доброте приютил в своем «роскошном дворце». А в 1809-м, в те дни, когда в городе еще не было ни приличных мостовых, ни фонарей, ни водопровода, Дюк выстроил для своих одесситов …театр. И не просто театр, а настоящий храм искусств – по проекту знаменитого петербургского архитектора – швейцарца Жана Тома де Томона. Певцов для этого храма, так же, как саженцы белой акации, Дюк выписал из Италии.
С тех пор по весне весь город наш напоен ароматом белой акации, придающим особую прелесть звукам моцартовского «Дон Жуана», льющимися вечерами из оперного театра, как память об «устроителе города» байроновском Дон Жуане – Хосе де Рибасе.
И под эти волшебные звуки Одесса становится Одессой.
Той Одессой, в которой когда-нибудь родимся и мы. Той Одессой, которую мы любили и которую не в силах забыть.
Прошло одиннадцать лет.
И 27 сентября 1814 года Дюк покинул Одессу. По легенде более десяти тысяч одесситов «со слезами и воплями» провожали его экипаж до заставы.
Одесситы любили Дюка. И было за что. Стоит только вспомнить, как в 1812-м он спасал жителей города от внезапно начавшейся чумы. Рискуя жизнью, он, вместе с выжившим из ума стариком аббатом Лабданом, появлялся в самых опасных местах, ухаживал за больными, помогал хоронить умерших, сжигал зараженные чумой дома. Вот как рассказывает об этом книга «Настоящее и прошлое Одессы», выпущенная к столетию города в 1894 году: «Герцог бывал всюду и везде. Страх был чужд ему. Он причастился и исповедался. Для него существовал теперь один только долг, и он исполнял его без колебаний… Ежедневно, ежечасно он клал душу «за други своя»…». (10)
Дюк де Ришелье покинул Одессу и … остался в ней навсегда.
Остался в легендах, остался в душах людей.
На Приморском бульваре, у начала Бульварной лестницы, стоит бронзовый памятник Дюку, воздвигнутый на деньги, собранные одесситами. Лицо первого градоначальника обращено к морю, к гавани, в которую со всего света заходят корабли.

Памятник Дюку де Ришелье
Здесь, у Дюка, по утрам гуляют молодые матери с колясками, а по вечерам собирается молодежь.
Одесситы не забывают Дюка. И немалую роль играет в этом память о его благородстве, его толерантности к одесситам – людям особой «нации» - конгломерату различных национальностей и различных вероисповеданий. Сам Ришелье был набожным католиком, но никому не мешал жить по своей вере и по своим обычаям – ни православным, ни мусульманам, ни иудеям…
Одесса и евреи
Евреи появились в Одессе в те давние времена, когда наш город еще был маленькой турецкой крепостью, которая называлась Гаджибей. Об этом свидетельствует почти стертая надпись на одном из камней кладбища, затерянного на диком обрыве Хаджибеевского лимана:
«Здесь спрятана (погребена) женщина набожная, г-жа Двося, дочь (слово стерто) рабби Абрама (слово стерто, вероятно, «скончалась») первого числа (слово стерто, вероятно, «месяца») Адар 5530 года (от сотворения мира, то есть где-то в марте 1770 года)».
И далее, на древнем языке иврит:
«Да будет душа ее присоединена к сонму вечно живущих».
По ревизии 1795 года в Одессе было уже «150 евреев мужска и 96 женско пола», и тогда же здесь была основана первая синагога.
Евреям было хорошо в Одессе – здесь им, в отличие от многих мест на земле, даже были рады. Вначале «устроитель города» Дерибас, видимо, не забывая о своих еврейских корнях, делал все возможное для того, чтобы привлечь еврейских купцов в город. Затем Ришелье. А в дальнейшем и его приемники. (11)
К средине XIX века в Одессе была уже многочисленная и богатая еврейская община. Из 400 тысяч жителей нового города около 125 тысяч составляли евреи, и они продолжали стекаться сюда из еврейских местечек Прибалтики, Украины, Молдавии.
Удивительно, но это соотношение еврейских и не еврейских жителей города (около 30% всего населения!) сохранится на многие годы – до Второй Мировой войны.
Молодая еврейская община Одессы существенно отличалась от старых общин традиционных еврейских центров, тех самых, откуда, собственно, и прибывали евреи. Это касалось и внешнего вида, и языка, и образа жизни, и, может быть, самого главного, соблюдения религиозных обрядов. Многонациональный характер города, интенсивность его светской жизни с явно выраженной торговой спецификой города-порта, несомненно оказывал влияние на новоприбывших, стремящихся преуспеть в новом для них мире.
На этом фоне роль религии в их жизни ослабевала. И, несмотря на то, что в 1841 году в дополнение к существовавшей в городе синагоге, богатые евреи построили еще одну - великолепную Бродскую, молиться туда ходили в основном по праздникам. Известен даже случай, когда в один из темных осенних вечеров несколько горячих одесских парней побили городского раввина Берниша бен Исраэля Ушера - за то, что он, по их мнению, требовал слишком строго соблюдения религиозных обрядов. (12)
Вместо традиционной черной одежды, одесские евреи носили одежду европейского покроя, брили бороды и общались между собой чаще на русском языке, чем на «идиш». Древнего языка «иврит» они почти не знали, и даже проповеди в Бродской синагоге читались на немецком или русском, а служба, вопреки традициям, сопровождалась органной музыкой.
Одесские евреи, как, впрочем, и все одесситы были вообще, большими любителями музыки. Они учили музыке своих детей и часто посещали оперный театр, где, вопреки религиозному запрету, слушали пение женщин, и, выражая громкими выкриками свое восхищение, мешали и певцам и публике.
И нечего удивляться, что религиозные евреи из традиционных еврейских центров, приезжавшие «по торговым делам» Одессу, поражались существовавшему там «разврату» и говорили, что «на сорок верст вокруг Одессы полыхает геенна огненная».
За несколько лет до того, как
переселиться в Одессу и, естественно, полюбить этот город, Менднле
Мойхер-Сфорим писал:
«Ничего не скажешь, Одесса, конечно, город
красивый. Жаль только, что людей здесь нет! Посуди сам, можно ли здешних жителей назвать людьми?.. Ты
взгляни только, как на бульваре мужчины ходят с бабенками под руку! Ведь
это же срам!
Евреи бреют бороду, женщины не носят париков…Нет, если говорят, что на сорок верст вокруг Одессы полыхает геенна огненная, значит так оно и есть…».
Но одесские евреи мало внимания обращали на эти старомодные, с их точки зрения, обвинения. Они наслаждались не только музыкой, они вообще наслаждались жизнью. Летними вечерами они дефилировали по Дерибасовской и Николаевскому бульвару, много времени проводили в кафе и кондитерских за приятной беседой, покуривая, несмотря на субботу, и, в зависимости от сезона, то прихлебывая ароматный турецкий кофе, то тая вместе с божественным одесским мороженым, на котором Антоша Чехонте когда-то «проел половину своего состояния». И сидящий за мраморным столиком кафе Фанкони известный в Одессе врач Иосиф Тырмос, чистокровный еврей, внешне ничем не отличался от сидящего за тем же столиком его лучшего друга – авиатора Василия Хиони, чистокровного грека.
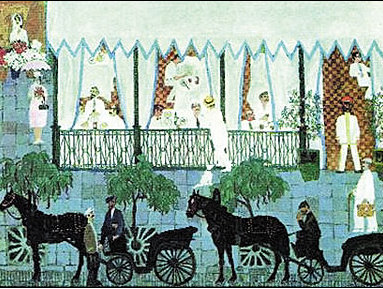
Кафе
Фанкони
(Ефим Ладыженский.
Одесса, начало ХХ века)
И в этом было еще одно важное отличие еврейской общины Одессы: она была неразрывно связана с нееврейским обществом города - в первую очередь, конечно, экономически, но что еще более существенно, социально. Евреи Одессы никогда не жили, как это было обычно в те времена, в обособленных районах, так называемых, гетто. Они были рассеяны по всему городу, и их ближайшими соседями часто бывали люди другой веры. Евреи встречались с не евреями и в домашней обстановке, и в общественных местах – в кафе, на бульваре, в театре и на базарах. Они танцевали вместе на очень любимых ими балах и «маскератах» и даже заводили межнациональные любовные интрижки.
Еврейская больница на Молдаванке принимала на лечение бесплатно всех жителей города без различия национальности. Еврейский сиротский дом на Базарной давал пристанище всем несчастным детям. А еврейская благотворительная столовая на той же Базарной отпускала обеды по символической цене в пять копеек всем голодным.
Казалось, что в этом благословенном городе, где витал еще благородный дух Дерибаса и Ришелье, в городе, где, вроде бы, так прекрасно уживались люди всех национальностей и вероисповеданий, нет, и не может быть ненависти к евреям.
Но так только казалось. И именно в Одессе в 1821 году разразился первый в России еврейский погром. И не важно, что послужило его причиной - слухи об участии евреев в убийстве греческого патриарха Григория V в Константинополе, или конкуренция между еврейскими и греческими лавочниками в Одессе. Важно то, что в этом грязном деле, кроме прибывших из Константинополя моряков, участвовали и коренные одесситы – «добрые соседи» евреев. Те самые люди, которые многие годы жили бок о бок с евреями в знаменитых одесских двориках. Те самые люди, которых бесплатно лечили еврейские врачи в Еврейской больнице. Те самые люди, которые получали бесплатные обеды в столовой на Базарной.
Погром 1821-го стал предвестником многих еврейских погромов, погрома 1859-го, 1871-го. 1881-го и, наконец, предвестником массовых убийств 1941-го, совершенных в те дни, когда наша Одесса стала «Городом Антонеску» - уже в другом столетии, другими варварами, но с помощью тех же «добрых соседей».
Да, в Одессе, бывшей, или, скорее, казавшейся надежной пристанью для евреев, не раз и не два бывали погромы. И, вместе с тем, в XIX-м и даже частично в XX-м веке евреи продолжали стремиться в этот благословенный город, в эту «геенну огненную».
Так в середине XIX-го ветер истории занес в Одессу прадедов авторов этой книги. И нелегкая судьба четырех поколений этих двух еврейских семей, как две капли соленой морской воды, каждая из которых - микрокосм, повторяющий суть бурных вод мирового океана – повторила нелегкую судьбу евреев Одессы.
Столетняя история этих двух еврейских семей – это страничка истории евреев Одессы.
На Молдаванке музыка играет …
После поражения России в Крымской войне Бессарабия, бывшая ранее частью Российской империи, в соответствии с Парижским трактатом от 18 марта 1856-го, отошла к подвластным Османской империи Румынским княжествам.(13)
И началось. Каких только бед, каких напастей не пришлось пережить живущим в этих краях евреям: и особым налогом их облагали, и недвижимое имущество не разрешали приобретать. Травля, погромы, депортации – жизнь стала невыносимой.
В то же время в России, после восшествия на престол императора Александра II, казалось, повеяли новые ветры. Реформы просвещенного императора, касавшиеся многих сфер российской действительности – политики, экономики, армии – не обошли стороной и евреев. В августе 1856-го был отменен драконовский закон о кантонистах, все менее жесткой становилась «черта оседлости», евреи получили право приобретения собственности и допуск к ранее закрытым для них областям экономической и культурной жизни государства. Слухи о «сладкой жизни» евреев России достигли Бессарабии, и местные евреи стали собираться в дорогу. Не в первый раз за свою тысячелетнюю историю они покидали насиженные места и отправлялись за тридевять земель искать «свое еврейское счастье».
Так было и на этот раз. Продав за бесценок какое-никакое свое имущество, евреи погрузили узлы на запряженные маленькими мохнатыми лошаденками каруцы, посадили на них детишек, привязали коров и отправились в Одессу, где, как они искренне верили, их ждет спокойная и сытая жизнь.
Несколько суток и более ста километров опасного пути по глубокой грязи изрытого рытвинами старого Бессарабского тракта, и вот, наконец, они подъезжают к Одессе.
Но тут неожиданность: застава для них закрыта.
Нет, конечно, городские власти как будто бы были рады переселенцам – новому городу не хватало рабочих рук. Но огромный поток бессарабских евреев испугал одесситов.
Ну, подумайте сами! На элегантных улицах Одессы, на ее площадях и обсаженных белой акацией бульварах, где по проектам Францисско Боффо уже возведена Биржа, и Воронцовский дворец, где гордо красуется памятник Дюку де Ришелье, Преображенский собор, и Оперный театр, где по вечерам дефилирует нарядная публика, - встали облепленные грязью бессарабские каруцы?
Трещат разложенные на синих базальтовых плитах костры, ржут лошади, мычат коровы, плачут давно не мытые дети. Шум, гам, запах кипящего в котлах варева, запах навоза.
Нет, и еще раз нет! Этого нельзя было допустить.
Бессарабских евреев не пустили в город. Уставшие от изнурительного пути переселенцы расположились за городской чертой, у заставы. Сначала временно, а затем и насовсем.(14)
Территория эта была, на самом деле, вполне пригодна для жизни.
Она представляла собой огромную, богатую родниковой водой низину – пологий участок длиннющего оврага, так называемую Водяную балку. С годами эту балку стали называть Молдаванка.
Молдаванка почти с первого дня ее возникновения стала каким-то цельным самобытным миром. Красочный многонациональный конгломерат ее жителей, их легкий нрав, веротерпимость, добросердечность и не всегда законные занятия, придавали ей особую прелесть, какой-то особый аромат.
Молдаванка, пожалуй, была больше Одессой, чем сама Одесса.
Одесские аристократы – всякие разные снобы с Дерибасовской и Дворянской - смотрели на Молдаванку свысока, и в то же время, гордились ею. И если Одесса прославила Молдаванку, то Молдаванка еще в большей степени прославила Одессу.
«Одесские рассказы» Бабеля, воспевшие экзотику Молдаванки, переведены на многие иностранные языки и вот уже около ста лет их читают во всем мире.
Но почему, спросите вы, мы уделили так много времени рассказу о Молдаванке?
А вот почему – одним из первых бессарабских переселенцев, прибывших в средине XIX века в Одессу, и поселившихся на Молдаванке был Мордехай Бошняк – прадед мальчика Янкале.
Мордехай поселился на Молдаванке. И не где-нибудь, а у самой городской черты - на Прохоровской. И дом построил он для своей семьи по проекту самого Францисско Боффо. Да, да, того самого, по проектам которого был выстроен весь центр Одессы.

Дом Мордехая Бошняка.
Прохоровская № 11, Одесса, 2006
Сегодня дом Мордехая выглядит не очень презентабельно. Но по тем временам это было прекрасное сооружение с приподнятым аттиком, украшенными классическими карнизами окнами, массивными деревянными воротами, - мало чем отличавшееся от «роскошного дворца» Дюка де Решилье.
Старая адресная книга «Вся
Одесса» сохранила имена давно ушедших в мир иной домовладельцев
Молдаванки, и среди них Мордехай:
«Бошняк Морд. [Мордехай] Мовш. [Мовшевич]
Прохоровская 11; дмвл. [домовладелец]».

Страничка из адресной книги.
Одесса, 1913
Мордехай был, как видно, состоятельным человеком – вскоре после приезда он открыл магазин флотской одежды, но не Молдаванке, как можно было предположить, а на Военном спуске.
Уже замощенный привезенной из Италии брусчаткой, Военный спуск был в те годы главной транспортной артерией города, соединявшей его центральный рынок Привоз с Практической гаванью порта. Здесь, в этом новом одесском порту, уже развевались флаги со всех концов земли, и с утра до вечера кипела работа: натужно скрипели лебедки, звенели цепи, звучали зычные морские команды - «Вир-р-а!! Май-на!!» - и виртуозная ругань морского люда. К вечеру затихал порт, и весь этот так виртуозно ругавшийся морской люд, жаждущий развлечений, выплескивался на манящий яркими огнями Военный спуск.

Военный спуск, Одесса, XIX век.
Здесь, на Военном спуске, было бесчисленное множество всяких погребков, кабачков и обжорок, где можно было угоститься жаренными на оливковом масле бычками и упиться до потери сознания молодым бессарабским вином. Бесчисленное множество всяких сомнительных «меблирашек» и даже вполне официальных публичных домов, где дорогих гостей приветливо встречали доступные женщины. Бесчисленное множество всяких магазинов и магазинчиков, лавок и лавочек, где можно было не только купить все на свете - от якорный цепей до ленточек для матросских бескозырок, но и продать абсолютно все - от краденного брильянтового колье до грязной матросской тельняшки. (15)
Матросскому люду здесь было раздолье. Но и богатые господа с Дерибасовской не гнушались – ни здешними развлечениями, ни здешними магазинами, заваленными дешевыми привозными («импортными», как сказали бы сегодня!) товарами.
Удивительно, но большинство хозяев всех этих заведений были евреи: корабельные маклеры – Абрам Грагеров, Натан Розенфельд и Яков Розенблит; торговцы корабельными принадлежностями – Маргулис, Израильсон и Лехтцинд; торговцы готовым платьем – Гессель-Лейб Брустейн, Александр Хаймович, Мендель Барченко и Исаак Цукерман; хозяин съестной лавки - Шмуэль Фридман…
В эту пеструю мозаику легко вписался Мордехай Бошняк.
Магазин его процветал, хотя окружение было несколько, скажем, «экзотическим». В том самом доме № 4, где помещался его магазин, располагались и меблирашки пани Барбары Заржицкой. А в соседнем доме № 2, принадлежащем мадам Хае Шварцер, за балконами под полосатыми маркизами шумели портовые кабачки, и соблюдали «достойную» тишину комнаты для свиданий.
Весело! Но это Военный спуск.
Это Одесса средины XIX -го.
«Экзотика» немало способствовала процветанию всех заведений Военного спуска и, в частности, процветанию магазина флотской одежды Мордехая Бошняка.
Шли годы. Подрастали сыновья – Иосиф, Рафаил, Давид.
И вот уже старшему Иосифу пришло время жениться. И невеста сыскалась ему – умница красавица, рыжеволосая и синеглазая, 17-летняя мейделе по имени Слува, дочь давнего делового партнера – Мили Тандета. Мастерская Тандета пошивала ту самую флотскую одежду, которую продавал Бошняк, и помещалась она тут же на Военном спуске, в двухэтажном доме, принадлежавшем некогда князю Гагарину, а затем перекупленному у него евреем Зонштейном.
Пробил час, и Слува Тандет вышла замуж за Иосифа Бошняка.
Свадьбу сыграли знатную. Настоящую. Еврейскую.
Вот уж играла музыка на Молдаванке!
Конец «Вороней слободки»
Молодых поселили здесь же, на Прохоровской 11, благо места хватало и в самом доме, и в пристроенных к нему во дворе трехэтажных доходных флигелях.
Жили счастливо. Пошли дети: сначала дочери – Циля, Фаня и Аня, а потом и сынок, названный в честь деда Тандета - Милей.
И все бы хорошо. Но грянула революция - в 1920-м в Одессу вошли красные, и кончилась веселая жизнь Военного спуска, разгромили его, как «Воронью слободку». Только перья летели из пуховых перин пани Барбары Заржицкой, да весенний ветер гнал по брусчатке мостовой обрывки полосатых балконных маркиз мадам Хаи Шварцер.
Кануло в пропасть имущество Мордехая Бошняка – все его магазины - и на Военном спуске, и на Александровском проспекте, и на Толкучем рынке. Самого Мордехая к тому времени, уже не было в живых, а взрослые сыновья его - Иосиф, Рафаил и Давид сразу же были арестованы и сгинули в «Доме на Маразлиевской», где твердокаменные чекисты «выбивали» из бывших купцов и бывших домовладельцев сведения о якобы спрятанном ими золоте.
Слува осталась одна, без средств к существованию. Дом на Прохоровской национализировали, а ее с четырьмя детьми поселили во флигеле, в небольшой двухкомнатной квартирке на втором этаже. Теперь никто и не вспоминал, кому когда-то принадлежал этот дом. И только дворник Прокоша, много лет проработавший у Бошняков и исправно получавший на праздники свой рубль на водку, завидев Слуву, сдергивал с головы картуз и подобострастно кланялся.
И потянулись годы. Как прожила их Слува – один Бог знает.
Настал 1930-й. Одессу трудно было узнать: Разруха. Голод.
Старшая дочь Слувы, Циля, ничем не может помочь семье – она еще в детстве переболела полимиелитом и почти не может передвигаться. Младшая – Анечка, хоть и окончила гимназию с золотой медалью, все никак не может определиться в жизни. А сын Миля еще подросток. Вся надежда на среднюю дочку – Фанечку. А у той, как раз что-то не заладилось в семейной жизни, и она на сносях вернулась домой к матери.
Здесь, на Прохоровской 11, в старом доме Мордехая Бошняка, 3 ноября 1930 года Фаня родила сына – Янкале.
Рождение мальчика – такое радостное событие для маленькой семьи, ухудшило ее и без того трудное положение. Фане пришлось бросить учебу в Медицинском институте и устроиться секретарем-машинисткой в Еврейскую больницу на Госпитальной. Но зарплата ее была ничтожной, и Слува в отчаянье, приняла трудное для себя решение: отправить младшую дочь Анечку за границу - в далекий город Харбин. Там, в Харбине, у нее был родной человек – старший брат ее Барух – сын покойного Мили Тандета с Военного спуска.
Как и почему Барух оказался в Харбине – это отдельная длинная история, не имеющая прямого отношения к нашему рассказу. Но устроен он был хорошо, владел, как когда-то в Одессе отец его магазином готового платья, и Слува была уверена, что он поможет ее девочке. Не чужой ведь!
На пространное письмо с просьбой о помощи, Барух ответил коротко: «Присылай девчонку…». И Анечку собрали в дорогу.
Плакала Слува. Плакали сестры. И только маленький Янкале весело гугукал.
А в Харбине…
А в Харбине все сложилось не так, как виделось, как мечталось. Много горя пришлось хлебнуть избалованной одесской гимназисточке. И, в конце концов, она вынуждена была согласиться на брак с богатым вдовцом годившемся ей в отцы. Муж, правда, оказался человеком хорошим, он по-отечески любил Анечку. А она, после всех перенесенных испытаний, чувствовала себя Синдереллой, попавшей из кухни во дворец.

Анечка Бошняк.
Харбин, 1936
Но сказка длилась не долго. В 1935-м советское правительство продает КВЖД и возвращает ее служащих в Союз. Вместе с ними подлежат эвакуации из Харбина и все советские подданные.
Счастливые «харбинцы», как теперь стали их называть, поехали домой – на Родину! Весело, с песнями, на особом поезде, украшенном флагами и снабженном несколькими багажными вагонами для нажитого ими добра.
Но… как только этот особый поезд пересек советскую границу, веселье кончилось: багажные вагоны отцепили, добро конфисковали, а «харбинцев» объявили японскими шпионами и арестовали. Все они, за малым исключением, погибли.
Анечка, как советская подданная, тоже подлежала эвакуации.
И она, испуганная возможной вечной разлукой с родными, решает покинуть мужа и вернуться в Одессу. Но почему-то тем, удобным, на первый взгляд, поездом «харбинцев», Анечка не поехала. Муж проводил ее до Владивостока, а там она со всем своим багажом села на пароход, следовавший в Одессу.
И это было, наверное, счастьем. Иначе не видать бы ей ни матери, ни сестер, ни маленького племянника Янкале.
Анечка добралась до Одессы.
Но какая это была Одесса?
На дворе был кровавый 1937-й.
И в родном ее городе правил бал Большой террор.
Сталинские «националы»
Начальной точкой Большого террора можно условно считать тот роковой день, когда Сталин спустил с цепи Николая Ежова. (16)
Теплым осенним вечером, 25 сентября 1936 года, вождь, отдыхавший в Сочи, отправил Молотову, остававшемуся в Москве «на хозяйстве», телеграмму: «…Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначить т. Ежова на пост наркомвнудела…».
Ежов был назначен, и… началась «Ежовщина».
Не следует, впрочем, забывать, что Ежов, при всем нашем к нему отвращении, был всего лишь марионеткой - исполнителем воли властителя. История знает немало кровавых властителей. Взять хотя бы царя Ирода, правившего Иудеей в 4 веке до н. э. Но даже Ирод, убивший жену свою Мариамну и собственных сыновей, кажется жалким дилетантом по сравнению со Сталиным. Террор, развязанный Сталиным в 1937-м, по своей беспредельной жестокости, по своему цинизму, превзошел даже злодеяния Ирода.
Нет, мы, конечно, не станем здесь говорить обо всех преступлениях, совершенных во время Большого террора.
Вспомним только одну особую акцию, направленную против так называемых «националов». И вспомним лишь потому, что эта акция прямо касается трагической судьбы наших родных и нашей личной трагической судьбы.
«Националами», с подачи Сталина, стали называть всех людей нерусской национальности, включая тех, кто многие годы жил в России, любил Россию и был человеком русской культуры.
«Харбинцев» тоже считали «националами», хотя они представляли собой не «национальность» в общепринятом смысле этого слова, а некую «общность» людей, живших в силу различных причин и обстоятельств какое-то время за границей - в Харбине.
«Национальная акция» была задумана широко. Сегодня уже рассекречены документы, в которых определены целевые группы репрессируемых «националов», «лимиты» репрессий по каждой группе и даты начала репрессий по группам и по географическим регионам. Для каждой целевой группы были установлены «преступления», которые следовало инкриминировать ее членам, и стандартные меры наказания за каждое такое «преступление». «Националы» обычно обвинялись в связи с разведкой страны их базовой национальности, в шпионаже, в терроре против Страны Советов и в антисоветской агитации. А мера наказания ограничивалась двумя основными категориями: 1-я категория – расстрел, 2-я – лишение свободы на 10 лет. Дела «националов» в суды не передавались, а решались особыми тройками НКВД, без участия обвиняемых и бесполезных в данном случае адвокатов. Решение «тройки», принятое за 10-15 минут, обжалованию не подлежало и приводилось в исполнение немедленно.
За 15 месяцев проведения «национальной акции», с 25 августа 1937-го до 15 ноября 1938-го, было осуждено 335513 «националов», большая часть из них – 247157 - расстреляны.
Почему Сталин взялся за «националов»? Почему объявил их всех без исключения виновными в шпионаже, терроризме, антисоветской агитации? Почему приказал расстреливать?
У историков на этот счет есть различные версии. И откровенно смехотворные, как, например, «психическая неполноценность вождя», и, более близкие к истине, как необходимость «перманентной чистки» - главного условия жизнеспособности советского режима. По этой последней версии, целью акции против «националов» являлось создание атмосферы страха, подавляющей любое инакомыслие. Когда репрессии осуществляются непрерывно, а жертвы выбираются произвольно, чуть ли не по «таблице случайных чисел», ни один человек не может быть уверен в своей неприкосновенности, и это каким-то непостижимым образом, укрепляет единоличную власть вождя.
Правда, в случае «националов» случайной выборки не было.
«Националы» уничтожались все - до единого, тотально.
Начальник 3 отдела УНКВД по Москве и Московской области товарищ Постель, принимавший участие в акции, а впоследствии и сам арестованный и расстрелянный, показал на допросе: «Арестовывали и расстреливали целыми семьями, в числе которых шли совершенно неграмотные женщины, несовершеннолетние и даже беременные, их всех, как шпионов, подводили под расстрел…только потому, что они «националы»».
И тут на ум приходит знаменитый гитлеровский эвфемизм: «очистка». Да, да, именно «очистка».
«Очистка» русского народа от всякой иностранной «нечестии».
Сталин уже «очищал» страну от купцов и домовладельцев, от дворян и священников, от «кулаков» и «подкулачников», от бывших белых офицеров и бывших полицейских. Теперь пришла очередь «националов».
Первый, подписанный Ежовым приказ по «националам» за номером 00439, вышел 25 июля 1937 года. Он обязывал местные органы НКВД, в соответствии со спущенными им «лимитами», в 5-дневный срок арестовать всех германских подданных, в том числе и политических эмигрантов. По этому приказу было осуждено 30 608 человек, их которых более 80% - 24 858 - были расстреляны.
Прошло около месяца, и 11 августа 1937-го вышел второй приказ, под номером 00485, предписывающий начать операцию против поляков, и в течение 3-х месяцев было арестовано и осуждено 139 835 поляков.
А дальше настал черед и всех остальных: латышей и греков, румын и финнов, норвежцев, эстонцев, литовцев, персов, мингрелов, японцев, корейцев, китайцев…
Каждая национальность в свое время, по своему приказу. Евреи, кстати, отдельной национальностью не считались, по их поводу никакого специального приказа не было. Они входили в состав (и иной раз весьма существенно!) каждой из национальностей – польские евреи, немецкие евреи, греческие евреи. Особенно тяжелое положение было в Одессе, поскольку здесь почти в каждой еврейской семье были родственники или друзья за границей, и каждый еврей мог быть объявлен польским, немецким, греческим и, даже, японским шпионом. Этим объяснялось и то, что «лимиты» по «националам» в Одессе были особенно велики.
Приказ о «харбинцах» под номером 00593 вышел 20 сентября 1937 года, и в течение нескольких месяцев после этого были выявлены и арестованы все разъехавшиеся по стране «реэмигранты харбинцы». «Все» - именно так требовал приказ!
Арестовано было 46 317 человек, из них расстреляно - 30 992 .
Усиленно искали «харбинцев» и в Одессе. Каждую ночь по городу, сновали «черные вороны», увозя в подвалы «Дома на Маразлиевской», где когда-то помещалось ЧК, а теперь гнездилось НКВД, удивленных людей. Все они очень скоро, не переставая удивляться, признают себя и японскими шпионами, и членами террористических организаций, и даже диверсантами. И напишут признательные показания и назовут «сообщников» - не смогут выдержать «физические воздействия», введенные с 1937 года в практику НКВД. Дела их будут рассмотрены «тройкой», и большая часть из них будет приговорена к расстрелу. «Лимиты» на расстрел – 70-80 и даже 90% - устанавливал сам Сталин. Александр Яковлев, председатель Центральной комиссии по пересмотру дел осужденных по политическим статьям, приводит написанную рукой Сталина записку, по которой Красноярскому краю был установлен даже дополнительный лимит на расстрел: «Дать дополнительно Красноярскому краю 6 600 человек «лимита» по 1-й категории. За И. Ст. В. Мол.».
И люди стали исчезать. Просто исчезать. Вчера человек еще был на работе, шутил с сослуживцами, слушал музыку в Оперном театре, встречался с друзьями на бульваре, а сегодня его уже нет, и сослуживцы, друзья и соседи даже бояться спросить о нем.
Слува Бошняк разумеется не знала о выходе приказа по «харбинцам». Но то, что многие из знакомых дочери по Харбину арестованы, наверняка знала: Одесса – «королева слухов» и слухи здесь всегда распространялись молниеносно. Знала она и то, что семьи реэмигрантов, если они по какой-то причине не были арестованы, высылались в Сибирь, а дети отправлялись в детские дома особого режима.
Опасность нависла над маленькой семьей. И Слува снова принимает решение: Анечка должна бежать.
Уехать. Туда, где ее никто не знает. Где нет дворника, нет соседей, которые, прилипнув к окнам, видели ее триумфальный приезд из Харбина с горой чемоданов и огромным, окованным железом китайским сундуком.
И снова Анечку собирают в дорогу. И снова плачет старая Слува.
И снова: «Поезжай с Богом, моя девочка. Даст Бог, весь этот кошмар кончиться и мы снова будем вместе…».
Но, кошмар не кончился.
После отъезда Анечки в Москву (как объяснили соседям, для продолжения образования), страх «разоблачения» не покинул Слуву. И сама она, и дочери ее Фаня и Циля, и даже внук Янкале, бывшие раннее «до 17-го года», семьей купца и домовладельца, стали теперь еще и семьей «реэмигрантки». И одно только слово сварливого соседа или донос дворника мог решить их судьбу.
Этот постоянный страх наложит отпечаток на всю их дальнейшую жизнь и сыграет роковую роль в те дни, когда в город придет война.
26 июня 1941 года, Одесса – Молдаванка
Вспоминает Янкале.
Откуда я взялся
Когда в Одессу пришла война, мне было десять лет.
Жили мы тогда на Молдаванке, можно сказать даже в самом сердце Молдаванки – в доме, который стоит как раз напротив Пожарной команды – на углу Прохоровской и Костецкой. Дом этот когда-то принадлежал моему деду, а еще раньше моему прадеду.
Прадед – Мордехай Бошняк был купцом какой-то гильдии и у него, как в сказке, было три сына – Иосиф, Рафаил и Давид.
Старший сын его Иосиф станет когда-нибудь моим дедушкой, а жена его Слува – моей бабушкой.
Дом на Прохоровской был огромным. Он был построен квадратом и состоял из нескольких флигелей - двух трехэтажных и двух одноэтажных. В трехэтажных жили родственники и жильцы - я по памяти насчитал шестнадцать квартир, но, возможно, их было и больше. А в одноэтажных была пекарня и магазины. Внутри дома был большой двор с деревянными воротами, окрашенными в бордовый цвет.
Советская власть наш дом забрала, оставив нам только маленькую квартирку во флигеле на втором этаже. Но и после того, как пропало все наше имущество, нас продолжали считать домовладельцами, и я помню, как наш дворник Прокоша, встретив бабушку, снимал картуз, кланялся и уважительно говорил: «Добрый день, мадам Бошняк!».
В этом доме на Прохоровской, принадлежавшем еще моему прадеду, я родился. И я мог бы начать рассказ о себе словами великого одессита Исаака Бабеля: «Я родился в Одессе, на Молдаванке …», и продолжить словами еще одного одессита Леонида Утесова: «… каждый хотел бы родиться в Одессе, но не всем это удается».
Итак, я родился в Одессе, на Молдаванке.
Больше всех моему рождению радовалась бабушка – я был ее первым внуком и, по ее словам, «будущее всей семьи и продолжатель еврейских традиций».

Бабушка Слува с внуком Янкале.
Одесса – Молдаванка, весна 1941
На восьмой день моего рождения бабушка тайком от соседей привела из синагоги старого моэля, и по еврейской традиции мне сделали брит-миля. И имя дали мне по еврейской традиции: Яков-Иосиф.
Яковом звали одного из моих дедов, отца моего папы – и в честь него мне дали имя Яков. А Иосифом звали еще одного моего деда, отца моей мамы - и в честь него мне дали имя Иосиф. Так я стал Яков-Иосиф. Два имени всю мою взрослую жизнь доставляли мне неприятности. По одним документам я был Яков-Иосиф, по другим – только Яков. Два имени вызывали недоумение и подозрительность, и я чувствовал себя неловко, как будто был в чем-то виноват.
Бабушка Слува называла меня ласково «Янкале».
И, конечно, не ведала, напевая над моей кроваткой: «Шлуф, майн Янкале, шлуф…», какая судьба уготована ее внуку, какая судьба уготована ей самой и ее дочерям, какая страшная судьба уготована всем евреям Одессы.
Мальчишки из нашего двора звали меня «Янкель-Дудль», и, завидев меня, начинали орать: «Янкель-Дудль скушал штрудель!». Я очень обижался на эту дразнилку, но штрудель, сладкий пирог из слоеного теста с изюмом и орехами, действительно любил. Жаль только, что бабушка пекла его редко – только на праздники. Много вкусных вещей готовила бабушка на еврейские праздники.
Песах… Бабушка приходит из синагоги. Вся семья садится за накрытый белой скатертью большой стол. На столе кошерная посуда. Ярко горят свечи. Все выглядит празднично – и стол, и одежда, и лица моих родных.
Я сижу за столом вместе со всеми на маленькой подушечке, которую положили на стул, чтобы мне было повыше. Рядом бабушка. На руках у нее Зоенька – дочка дяди Мили. Она на два года младше меня. Нам весело, мы гримасничаем и хохочем. Зоеньки давно уже нет в живых. Ей было всего восемь, когда она погибла вместе со всеми евреями в 1941-м. Но пока нам весело – у нас праздник.
Я очень люблю праздники, и мне вспоминается еще один.
Однажды летом бабушка сказала, что сегодня у нас праздник, потому что сегодня к нам приезжает Анечка.
Анечка - дочка моей бабушки, младшая сестра моей мамы, а значит моя родная тетя, и я очень разволновался. Весь день я помогал бабушке печь штрудль и готовить для Анечки постель – сам таскал тяжеленные пуховые подушки.
«Кик вус махт дер кляйнэр!» - «Посмотри, что творит этот малыш!», - смеясь, говорила бабушка моей маме.
И вот, наконец, приехала Анечка. Молодая. Нарядная.
Она приехала к нам из Харбина. Там, в Харбине, она жила с мужем в большом и красивом доме. У нее были даже, как у принцессы, слуги и две собаки – огромный серый дог и рыжий щенок боксер. Но Анечке было грустно во дворце, без нас. Она соскучилась по своей маме – бабушке Слуве – и очень хотела познакомиться со мной. Она ехала к нам долго, сначала на поезде, а потом на пароходе, и привезла много подарков: четырнадцать чемоданов, из толстой кожи, большущий, деревянный, с железными обручами, сундук и, самое главное, настоящий патефон с пластинками Лещенко .
Теперь Анечка будет жить с нами. В честь ее приезда бабушка накрыла на стол, и я постарался сесть рядом с моей новой тетей. Что-то притягивало меня к ней – она такая красивая и от нее так вкусно пахнет.
Бабушка наливает мне в тарелку бульон из курочки с блестящими желтыми монетками жира. На дне тарелки длиннющая белая лапша. Когда втягиваешь ее в рот, брызги летят во все стороны и слышно булькание.
«Не тяни коня за хвост!»- говорит мне тетя Аня. От стыда я краснею, на глаза наворачиваются слезы.
«Посмотри, ведь это так просто – набираешь в ложку немного бульона с лапшой, а затем губами сжимаешь ложку и все, что в ней находится. Понятно?».
С тех пор, я никогда «не тяну коня за хвост». Многому из того, что должен знать одесский «интеллигентный» ребенок, научила меня тетя Аня. Много светлого внесла в наш дом. Но недолго пришлось нам пожить вместе. Вскоре я услышал новое слово: «ре-эми-грант-ка».
Моя тетя Аня, оказывается, «реэмигрантка», и это, оказывается, очень опасно. Непонятно только, почему.
И ей нужно уезжать. И все плачут. И бабушка говорит: «Фур..эн ким гызынт, майнэ таярэр кинд». И рассказывает соседям, что Анечка уезжает в Москву «продолжать образование».
Анечка сложила свои вещи в маленький чемоданчик и уехала. Часть привезенных ею из Харбина нарядов бабушка продавала в театры – их можно было носить только на сцене. А в октябре 1941-го, когда в город вошли румыны, все харбинское добро и патефон с пластинками Лещенко разграбил наш дворник Прокоша вместе с соседями.
В Москве моя тетя нашла пристанище у доброй старушки Марьи Долматовны, в маленькой полутемной комнатке, на первом этаже двухэтажного старого деревянного дома на Ново-Басманной улице, напротив сада имени Баумана. Они жили там вместе с белой козой много лет, и стала набожная русская женщина для Анечки родным человеком.
Тускло светится лампадка под образами, пахнет котами, и Анечка, бывшая Синдерелла, сидя за маленьким столиком, дает приходящим ученикам уроки английского языка, чаще всего, бесплатно. И до самой смерти своей живет моя тетя в постоянном страхе, потому что она преступница - «реэмигрантка».
А у нас, в Одессе, тем временем все шло своим чередом. Я все реже вспоминал тетю Анечку, потому что как-то сразу наступил 1938 год, и я пошел в первый класс, а после его окончания, в музыкальную школу, потому что, как считала бабушка, у меня был «абсолютный слух» и я должен был стать «великим музыкантом».
В нашей семье, на самом деле, слух был у всех и все очень любили музыку. В большой комнате у нас стояло старинное бабушкино пианино - на нем часто играла моя мама и ее старшая сестра Циля. Они играли по нотам - Чайковского, Шуберта, Мендельсона. А мой дядя Миля играл по слуху – модные на Молдаванке песенки: «Мурка», «Гоп со смыком», «Бублички». Отец мой тоже любил музыку. Но он не играл на пианино, а крутил патефон, и, когда я приходил к нему в гости (он жил отдельно от нас), мы вместе слушали оперную музыку. Многие арии отец знал наизусть и пел их своим низким густым голосом.
Лет в пять и я начал играть на пианино. Но вскоре мне это надоело, и я стал просить маму купить мне маленькую скрипочку, такую как у мальчишек из нашего двора. Мама сначала не хотела, но потом сдалась, купила мне скрипочку-четвертушку и повела на экзамен к Столярскому.
В нашем доме все уважали Столярского. Бабушка называла его по имени отчеству - Петр Соломонович, и говорила, что он сын еврейского клейзмера и чтобы стать знаменитым я обязательно должен у него учиться.
И вот наступил день, когда меня одели в новый бархатный черный костюмчик, завязали под воротничок белый бант, и я, вместе с мамой, отправился на экзамен. Мы поднялись на второй этаж консерватории, что напротив немецкой Кирхи, и устроились на стульях в большой комнате, перед залом, где проходил экзамен. Рядом с нами, сидели еще несколько нарядных мальчиков и девочек со своими мамами. Сидели мы долго. Я даже устал так долго тихо сидеть. Но тут подошла наша очередь, и я один без мамы вошел в зал…
Справа от меня стоял огромный черный рояль, за которым на круглом стульчике сидел молодой парень, наверное, учитель, а прямо передо мной на возвышении за столом сидели другие учителя. Один из них, мне показалось, был этот самый бабушкин Столярский. Он был совсем не страшный – маленький, толстый, с круглой головой и круглыми очками. Посмотрел на меня, улыбнулся и спрашивает, вежливо так, как у взрослого: «Ну-с, молодой человек, ноты вы знаете?».
«Знаю», - ответил я. «Сейчас посмотрим. Подойдите к роялю и отвернитесь». Я, подошел и отвернулся.
«Дайте ему ноту!», - приказал Столярский тому, кто сидел за роялем, и я услышал ноту. Отгадать ее было совсем нетрудно – мы часто играли так дома с тетей Цилей.
«Какая это нота?», - спросил Столярский.
«Фа! Фа!», - радостно закричал я.
«Правильно, мальчик. А теперь, какая?».
«Си бемоль». «Хорошо. А аккорд можете отгадать?».
«Могу!», - уже уверенно сказал я, и услышал аккорд: «Рэ фа диез ля». «Ну, молодец!».
Потом учитель постучал по крышке рояля несколько раз и попросил меня повторить. Я повторил.
«Очень хорошо, мальчик. Хватит!».
Так я был принят в школу Столярского.
Дома нас встретила бабушка: «Этот мальчик будет-таки знаменитым!».
 >
>
В школе Столярского.
Второй слева в последнем ряду – Янкале.
В центре – профессор Столярский.
Одесса, 1939
Но предсказанию бабушки не суждено было сбыться.
Переучиваться с пианино на скрипку, оказалось нелегко. От долгих упражнений болела левая рука, а от долгого стояния болели ноги. Однажды я даже залез под стол, и никакие уговоры не могли заставить меня вылезти и взять в руки ненавистную скрипку. Папа пригрозил мне ремнем. Но бабушка сказала: «Мы даф нышт уродован ребенка!».
Так закончилась моя карьера «великого музыканта».
А вскоре нам всем стало уже не до музыки.
В Одессу пришла война.
Карикатура на директора, или
пешком в Одессу
Неисповедимы пути Господни.
Удивительны пути, веками приводившие евреев в Одессу.
И всегда вызывает изумление, как глобальные, казалось бы, исторические события могут кардинально менять судьбу отдельного человека.
Мы уже рассказали о том, как прадед Янкале – Мордехай Бошняк после вступления на престол императора Александра II, стал «одесситом». Теперь речь пойдет о маленькой Ролли, о том, как «одесситом» стал ее дед – Иосиф Тырмос.
Начнем издалека.
В 1874 году в столице Таврической губернии – Симферополе произошло событие, не имевшее, как будто бы, исторического значения: два учебных заведения – еврейская государственная школа и школа «Талмуд-Тора» решили объединиться. Целью этого объединения, инициированного лидерами еврейской общины, было повышение уровня образования еврейских детей, который, видимо, оставлял желать лучшего. (17)
Решение правильное, но как его осуществить?
В ту пору в небольшой еврейской общине Симферополя не было раввинов, обладавших необходимыми знаниями для осуществления такой реформы, и община обратились за помощью в известный центр еврейской учености - «Бейт Мидраш ми Вильно». Эта высшая раввинская семинария, основанная в 1847 году, готовила раввинов так называемого «нового типа» - сведущих не только в религиозных, но и во многих светских науках.
Однако, как оказалось, найти раввина, согласного покинуть «Литовский Иерусалим» и отправиться на край света в какой-то Симферополь, было не просто. Несмотря на то, что прошло уже около 100 лет с тех пор, как Симферополь по воле губернатора Новороссии князя Потемкина стал столицей Таврической губернии, город все еще оставался глубокой провинцией.
И все же, такой человек нашелся. Это был 25-летний раввин, недавно окончивший «Бейт Мидраш», Авраам Тырмос.
Авраам был родом из Греции. А Симферополь, или, точнее, Симферополюс, был основан когда-то в древности греческими мореплавателями. Здесь многие все еще говорили по-гречески, а на главной площади все еще журчал фонтан в виде человеческого лица, сооруженный слепым от рождения греком Апостолом Ставропуло, который, как говорят, прозрел, омыв лицо целебной водой из бьющего в этом месте родника.
И вот, как видно, учитывая «греческую сущность» этого города, рав Тырмос согласился отправиться в Симферополь. Хотя возможно, что «греческая сущность» здесь совершенно не причем, а был он, Авраам, как легендарный его соотечественник Одиссей, просто любителем приключений.
От Вильно до Симферополя тысячи километров, и прежде чем пуститься в путь, Авраам решил заехать домой, в Афины, где не был уже много лет из-за мучительного разрыва с отцом.
Отец Авраама – Иосиф Тырмос – известный афинский врач, жил в собственном доме, в самом центре города, неподалеку от Акрополя.
Греческая медицина всегда занимала особое место в мире. Начало этому положил знаменитый Алкмеон Кроионский, который еще в VI веке до н. э. ввел понятие о здоровье, как о гармонии сил природы в человеческом организме. В роду праотца современной медицины, автора известной Клятвы Гиппократа, к моменту его рождения в 460 году до н.э., уже насчитывалось восемнадцать поколений врачей и акушерок. Врачи, как и скульпторы, в Афинах принадлежали к самой привилегированной части общества и были, в большинстве своем, очень богатыми людьми.
Доктор Иосиф Тырмос тоже, видимо, был богатым человеком. И, как многие люди его круга, несмотря на иудейское происхождение, вел светский образ жизни. Он не носил традиционной еврейской одежды, не соблюдал субботу, не посещал синагогу. Словом не лишал себя удовольствий, которые в те времена предоставляли своим жителям Афины - белый, сверкающий на солнце своим вечным мрамором город.
Жизнь улыбалась Иосифу.
И лишь одно омрачало ее – старший любимый сын Авраам.
Аврааму претила светская жизнь отца. С каждым днем его все больше и больше привлекала религия. И однажды, наговорив много горьких слов отцу, и выслушав от него еще больше, Авраам ушел из родительского дома. Покинул свою солнечную родину ради чужой суровой северной страны и трудных лет учебы на чужом ему древнееврейском языке в «Бейт-Мидраш ми Вильно».
Прошли годы. И вот повзрослевший Авраам возвращается в Афины, чтобы примириться с отцом и перед началом новой своей жизни получить его благословение.
Нет, они не плакали при встрече. Иосиф, скорее всего, не простил сыну отказа продолжить афинскую династию врачей, не простил ему возврат к религии. И все же, он благословил сына и, снабдив его солидной суммой денег, проводил до Пиреуса, откуда Авраам на греческом торговом судне отплыл в Одессу.
Добравшись до Одессы, он, на другом уже, новом российском прогулочном пароходе, доплыл до Ялты, а оттуда на запряженной рыжими волами арбе перевалил через Ай-Петри и достиг, наконец, цели своего путешествия.
Симферополь, представший глазам молодого человека, ничем не напоминал знакомые ему города – суровый красавец Вильно, сверкающие Афины и празднично-элегантную юную Одессу. Пыльные улицы без названий, глинобитные дома, мусульманские мечети, развалины древнего скифского городища – весь этот антураж навевал унынье.
Но молодость! Авраам очень быстро вошел в жизнь еврейской общины Симферополя. Занял пост инспектора новой объединенной еврейской гимназии и стал казенным раввином города, то есть номинальным руководителем общины. По долгу службы он был главным посредником между евреями и властями: в его обязанности входило «объяснение евреям законов Российской империи и разрешение возникавших в оных недоумений», ведение книг записей рождений, бракосочетаний и смертей, принятие присяги у новобранцев-евреев, а также, по праздникам, проповеди в синагоге.
Авраам женился, построил комфортабельный дом, а позднее еще один, на берегу моря в Коктебеле. Он стал уважаемым человеком, бессменным членом различных государственных комиссий. О нем нередко писали в местных газетах. Так и о смерти его - 24 июля 1916-го - в газете «Еврейская жизнь» была опубликована большая статья, освещавшая азкару, на которой держал речь «сам» рав Диамант, и оповещавшая читателей, что в память Авраама Тырмоса будет учреждена стипендия, которая даст возможность трем лучшим ученикам еврейской гимназии продолжать учебу.
У Авраама было два сына. Старший сын – Александр, гордость отца, получил образование в Германии, стал инженером, а в будущем и одним из создателей Киевской электросети.
А вот младший - Иосиф, названный так в честь афинского деда-врача, в отличие от Александра, был, что называется, «непутевый». Нет, нет, учился-то он блестяще, но никаких авторитетов не признавал и особое неприятие его вызывал религиозный образ жизни отца.
Казалось, что весь «афинский сценарий» повторяется.
Сын снова восстает против отца. Только на этот раз от иудаизма уходит сын.
С точки зрения отца, Иосиф вел себя безобразно – делал все, «чего хочет его левая нога». Последним его «художеством» стала карикатура на самого директора объединенной еврейской гимназии. Карикатура талантливая, злая, нарисованная для всеобщего обозрения мелом на классной доске.
Скандал был ужасный! Иосифа - сына всем известного в городе казенного раввина Авраама Тырмоса, выгнали из той самой гимназии, в которой он занимал пост инспектора?!
Стыд и гнев обуяли Авраама.
Разговор Авраама с сыном, как и тот давнишний разговор в Афинах отца его Иосифа с ним самим, получился тяжелым. И в какой-то момент, не сдержавшись, он выгнал сына из дому.
А сын? А сын его поступил точно так же, как некогда поступил он сам. Не стирая улыбки с лица, Иосиф младший собрал свои вещи в маленький узелок, кликнул любимую собаку, взял палку и отправился…
Как вы думаете, куда? Да, конечно же, вы угадали.
Иосиф отправился в Одессу. Пешком.
И, как ни странно, дошел.
Так, летом 1885 года Иосиф Тырмос – будущий дед маленькой Ролли – стал «одесситом».
Лекарь – внук лекаря
Как гласит семейная легенда, покинув родительский кров, Иосиф, пошел в горы, и по поросшему лесом склону Ай-Петри добрался до водопада Учан-Су. Дорогу он знал хорошо – почти каждый год с наступлением лета ездил этой дорогой на дачу в Коктебель, слушая восторженные рассказы отца о том, первом его путешествии из Афин в Симферополь.
Спустившись от водопада к морю, Иосиф нанялся юнгой на первый попавшийся корабль, шедший из Ялты в Одессу, и в один прекрасный день, сойдя с корабля, очутился на пресловутом Военном спуске. Отсюда жизнь 17-летнего сына симферопольского раввина могла повернуться в любую сторону. Но она повернулась так, как повернулась. Иосиф поступил на недавно открытый Медицинский факультет Новороссийского университета, закончил его с отличием и стал врачом.
Как это стало возможным? Ведь юноша прибыл в чужой для него город, без денег и без единого родного или хотя бы знакомого человека. Семейная легенда на этот счет сохранила несколько версий. По одной из них, озвученной самим Иосифом, в Одессе он всего добился сам: став учеником столяра, стучал молотком день и ночь и этим зарабатывал себе на жизнь и на учебу в университете.
Так это, или иначе – сегодня уже не имеет значения.
Важно лишь то, что Иосиф Тырмос, действительно, стал врачом, и жаль только, что афинский дед его не дожил до этой минуты.
Давняя мечта старого лекаря Иосифа Тырмоса осуществилась: внук, сделал для него то, чего не пожелал сделать сын. Внук, носящий к тому же его имя - Иосиф Тырмос, продолжил династию врачей, и тем самым будто бы, продолжил его жизнь.
Одной из знаковых вех этой жизни стала «удачная» женитьба на Иде – дочери Якова Перкеля - богатого одесского негоцианта, владельца фирмы «Перкель и К(о)», специализировавшейся на импорте, как тогда говорили, колониальных товаров (ванили, кофе, перца, лимонов), и хозяина нескольких доходных домов (Херсонская 19, Торговая 14, Авчинниковский переулок 10).
Ида была красивой девушкой – миниатюрная брюнетка с синими глазами и длинной косой. Но вот ума ей явно не хватало, и нелегко ей было понять такого неординарного человека, как Иосиф.
А Иосиф, между тем, остался все тем же Иосифом, как в детстве, в Симферополе, и снова делал все, «чего хотела его левая нога». И так он будет поступать до последнего дня своей короткой жизни.

Доктор Иосиф Абрамович Тырмос.
Одесса, 1909
Нет, нет, он, конечно, как всегда, много работал: оперировал и принимал больных. И на Дворянской 14, в своем собственном доме, полученном, кстати, от Якова Перкеля в приданное за Идой. И на Александровском проспекте 25, в хирургической клинике с постоянными кроватями, которую он держал вместе с коллегами-врачами М. Ауслендером и М. Маргулисом. А летом и на Хаджибеевском лимане в помещении грязелечебницы.
Доктор Тырмос, уролог и специалист по мочеполовым болезням был очень востребован, особенно среди страдавших стыдными болезнями офицеров всех перебывавших в Одессе армий. Для того чтобы попасть к нему на прием, следовало записаться заранее по телефону, номер которого в те давние времена состоял всего из четырех цифр: «16-29».

Листок из старой адресной книги (Ф-13)
Одесса, 1914
Но работа никогда не была главной в жизни Иосифа. Иосиф спешил жить. Любил вкусно поесть у Фанкони или у Робина, любил красивых женщин, породистых собак, породистых лошадей и новую свою игрушку – одно из первых в Одессе авто. Он сам водил автомобиль, что было редкостью по тем временам. И еще большей редкостью было то, что за рулем этого автомобиля часто можно было увидеть его 17-летнюю дочь - Ролли.
У Иосифа не было сына, что очень печалило его, а было три дочери. Старшая – Нора, типичная одесская барышня, очень похожая лицом и характером на мать. Средняя – Ролли, похожая на отца, в 1919-м она умерла от «испанки», чем повергла его в глубокое горе. И младшая – Наташа, или, как все ее называли – Тася. Та самая Тася, которая когда-нибудь станет матерью маленькой Ролли, названной, видимо, так в память о сестре.
Иосиф любил своих дочерей.
Но самой большой его страстью все-таки оставалось море. И он, бывало, забросив все дела, уходил на кораблях РОПИТа простым судовым врачом в Константинополь, Александрию, Пиреус, а то еще дальше – в Африку, Индию, Японию. И привозил из дальних своих странствий причудливые африканские безделушки, японские нэцки, персидские ковры, и даже, однажды, две шубы из обезьяньего меха для дочерей.
Тырмосы жили широко. Дом их стоял в центре города, где размещались многие заведения культурного толка: Новороссийский университет, частные скрипичные курсы Столярского, рисовальная школа Манылама, литературный кружок «Коллектив поэтов» (членами которого станут когда-нибудь Багрицкий, Катаев и Олеша), и школа танцев Казимирова, о которой Владимир Хенкин пел свои знаменитые куплеты: «Кавалеры приглашают дамов, там, где брошка, там перод…».
На первом этаже дома была клиника, на втором – 8-комнатная квартира, в которой жила семья, а под крышей, на антресолях - прислуга: бессменный лакей Викентий, кухарка Еленка, горничные, гувернантки, кучер, а в последнее время еще и шофер. Огромный удобный дом и многочисленная челядь, к услугам которой привыкла дочь богатых родителей Ида, делала жизнь семьи комфортной и позволяла часто устраивать вечеринки и приглашать на обеды и ужины друзей.
«Человек смертен…»
А друзей у доктора Тырмоса было много.
В основном близкие ему по духу - греки: капитаны кораблей, авиаторы, автогонщики, негоцианты, банкиры. Предки многих из них служили во время русско-турецких войн под командованием де Рибаса на русском флоте, и он испросил разрешения у императрицы выделить для них землю в Одессе.
Самым близким другом Иосифа был Хиони - один из первых авиаторов современности: летная его лицензия носила номер 250.
Василий Хиони родился в Афинах, специальную школу авиации окончил в Париже, а в Одессе занимал пост руководителя местной школы авиации, хозяином которой был банкир Артур Анатра. Хиони совершил более 500 опаснейших показательных полетов, в том числе и на летательных аппаратах собственной конструкции. И именно он, Хиони, учил летать рыжего Сережку Уточкина. Но Уточкина помнят и чтят в Одессе, вот и памятник ему недавно соорудили, а о Хиони мало кто знает.

Учебно-тренировочный самолет «Хиони-5»,
по прозвищу «Конек-горбунок».
В кресле инструктора Василий Хиони.
Одесса, 1925
Иосиф дружил с Хиони много лет и не мог предполагать, какой трагедией обернется эта дружба для его дочери Таси и внучки Ролли.
В августе 1927 года Иосиф с друзьями, как обычно, собрались в Ялту – на «бархатный сезон». Плыть решили на прибывшем недавно в Одессу с Дальнего Востока красавце корабле «Симбирск», переименованном, впрочем, к тому времени в «Ленин». Жену и дочерей он в такие поездки обычно не брал, предпочитая компанию друзей. Но на этот раз решил взять с собой недавно вышедшую замуж 24-летнюю Тасю и ее мужа Изю.

Тася Тырмос.
«Портрет студентки» кисти Евгения Буковецкого
Одесса, 1928
Компания подобралась отличная. Здесь был, конечно, и Василий Хиони, и еще один грек – родственник покойного городского головы Маразли – молодой барон Георгий Фредерикс, который, придерживаясь здорового образа жизни, заставлял своих спутников есть по утрам полезную по его убеждению гурьевскую кашу.
Погода была чудесная. Море тихое. И 18 августа «Ленин» бросил якорь у набережной Ялты. А на следующее утро, вся компания, верхами на нанятых у чеченцев лошадках отправилась на прогулку в горы. Проводником служил Иосиф. Он давно мечтал показать друзьям «свой» Ай-Петри, «свой» Учан-Су - ту «точку отсчета», откуда он, мальчишка, изгнанный из родительского дома, начал свой жизненный путь.
От Ялты до Учан-Су около шести километров. Но подъем тяжел.
Всадники долго двигались по извилистой горной тропе между соснами в густом тумане. А потом как-то сразу кончился лес, уплыл туман, и они оказались на уступе огромной скалы, на краю пропасти. Над ними со стометровой высоты падала искрящаяся в солнечных лучах «летящая вода» Учан-Су. А далеко внизу, в бездонной пропасти, белым кружевом пенилось море.
Непередаваемое, восхитительное зрелище!
Прогулка удалась. Вернувшись к вечеру на корабль, после сытного ужина, вся усталая компания расположилась на верхней палубе. Слушали доносящуюся с набережной Ялты тихую музыку, вдыхали аромат магнолий и, прихлебывая терпкое крымское вино, любовались золотыми нитями падающих звезд.
Этот волшебный вечер Тася запомнила на всю жизнь.
Она была счастлива.
И отец ее Иосиф был счастлив. Тронутый до глубины души этим возвращением в юность, на Ай-Петри, к водопаду Учан-Су, он прилег возле дочери на шезлонг и заснул.
Заснул, чтобы уже никогда не проснуться.
Внезапная смерть Иосифа поразила друзей. Вернуться в начало своего жизненного пути с тем, чтобы завершить его – в этом была какая-то мистика. И прав, наверное, Булгаков, сказавший устами Волонда: «…человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен… И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер…». (18)
«Шпионаж» в пользу Греции
После смерти Иосифа заботу о его семье взял на себя Хиони.
Особенно много внимания уделял он Тасе – как видно, не мог забыть страшные минуты, которые провел вместе с ней на палубе корабля у шезлонга уснувшего на веки друга..
Летние месяцы Тася с семьей жила на даче Хиони на 10-й станции Большого фонтана, где ей были предоставлены две комнаты с увитой диким виноградом верандой. А зимой они ходили друг к другу в гости, и, если не виделись несколько дней, Хиони забегал в юридическую консультацию, где Тася начала работать, окончив в 1928-м юридический факультет Института Народного хозяйства.
В те годы Хиони был человеком в Одессе известным – главным конструктором государственных авиаремонтных мастерских, созданных на базе бывшего завода Анатра. В 1921-м на самолете своей конструкции он совершил первый беспосадочный перелет из Одессы в Москву, в 1928-м был одним из первых кавалеров нового советского ордена Трудового Красного знамени.
А потом, 11 декабря 1937-го вышел очередной сталинский приказ по «националам». По этому приказу, носящему номер 50215, всем республиканским, краевым и областным управлениям НКВД предписывалось одновременно, 15 декабря 1937 года, начать аресты граждан греческой национальности, подозреваемых в шпионской, диверсионно-подрывной и националистической антисоветской работе.
Одним из первых арестованных в ночь на 15 декабря 1937 года греков был Василий Хиони. Знатного авиатора по статье 54-1а УК УССР обвинили в «шпионаже в пользу Греции», приговорили к высшей мере наказания, и 14 февраля 1938-го расстреляли.
В ту же ночь, 15 декабря 1937-го, была арестована большая группа греков – потомков Дмитрия Инглези – крупного негоцианта ришельевской эпохи, участника тайной организации «Филики Этерия», кавалера греческих и российских орденов, бывшего с 1818 по 1821 год городским головой Одессы. В числе арестованных была внучка Инглези – Екатерина и еще пятеро более дальних родственников. Вместе с ними по приказу о греческих «националах» была арестована 60-летняя Лиза Брейтбурд – бабушка Ролли. Так сталинская акция против «националов» в первый раз каким-то невероятным образом связала судьбы двух еврейских детей - Ролли и Янкале.
Арестованная по обвинению в шпионаже бабушка Лиза, мать Изи, была простой, далекой от политики, типичной одесской еврейкой, посвятившей свою жизнь семье. Единственным ее «криминалом» была давняя дружба с семьей Инглези.
Во время ареста Лизы сотрудник 3 отдела УГБ Китайгородский по ордеру № 3307 провел тщательный обыск в ее квартире. Согласно протоколу, подписанному понятыми, основными уликами против «шпионки» явились изъятые у нее при обыске две заграничные открытки, десять заграничных патефонных пластинок и … «разливная ложка белого металла».(19)
Невероятно, но «дело» бабушки Лизы, в виду его особой серьезности (шутка ли – «групповуха»!), рассматривалось на самом высоком уровне с участием товарищей Вышинского и Ежова.
Из Протокола Комиссии НКВД и Прокуратуры Союза ССР,
№24 от 31 января 1938 года (Одесская область)
Присутствовали:
1.Народный Комиссар Внутренних дел Союза ССР, Генеральный Комиссар Государственной Безопасности – тов. Ежов
2. Прокурор Союза ССР – тов. Вышинский
Слушали:
Материалы на лиц, обвиняемых в шпионской, диверсионной повстанческой и националистической деятельности, представленные Управлением НКВД по Одесской области в порядке директивы НКВД № 50215 от 11 декабря 1937 года.
Постановили….
В протоколе, подписанном Ежовым и Вышинским и скрепленном Гербовой печатью НКВД СССР, фигурируют 98 человек, в большинстве греки, 29 приговорены к расстрелу, остальные 68 - к заключению в исправительно-трудовые лагеря на 10 лет.
Хиони нет в этом списке. Видимо он, «птица высокого полета» - (в прямом смысле этого слова), заслуживал отдельного заседания комиссии НКВД, а, может быть и более «высокой» подписи.
Но расстреляли его вместе со всеми греками – 14 февраля 1938.
Так что в тот день было расстреляно в Одессе не 29, а 30 человек.
Из «шпионской группы» бабушки Лизы были расстреляны двое: Георгий Савоста и Агафья Сапелкина. А Лизе повезло – она, как указано в 36-й строке протокола, за свою «контрреволюционную деятельность», в которой не созналась, получила «всего» 10 лет.
Отсидев 17 месяцев в одесской тюрьме, бабушка Лиза 21 июля 1939 года пошла по этапу в Казахстан, в город Караганду, Савранского района – в печально известный КАРЛАГ НКВД № 2.
С П Р А В К А
КАРЛАГ НКВД СССР, 10 декабря 1939 г.
Брейтбурд Л.Х., осуждена Ос. совещанием НКВД СССР 11.02.39 на 10 лет. Отбывает срок с 15. 12.37 г. [со дня ареста].
Работает поваром, работает хорошо, пищу приготовляет вкусно и своевременно, помещ. содержит в чистоте.
Нач. (неразборчиво).
Бабушку Лизу еще мучили допросами в одесской тюрьме, когда 17 января 1938 года арестовали ее невестку Тасю.
Принято считать, что в 1938-м террор уже начал затихать. По крайней мере, за весь этот год было арестовано 638 509 человек, тогда как в предыдущем 1937-м число арестованных составило 936 750. Расстрелы, однако, продолжались - 326 618 человек в 1937-м и 353 074 – в 1938-м [ГАРФ, Ф9401, оп.1, д.4157, л. 201-205, рукопись]. Да и аресты «греческих шпионов» не прекращались.
И хотя при аресте Тасю обвиняли в «преступной связи с резидентом Японской разведки» - секретарем японского консульства Чэмурой, основной причиной ареста все же был «шпионаж в пользу Греции» и, в частности, дружба с Хиони.
Почти каждый допрос включал вопросы о Хиони. (20)
Тасю допрашивали ежедневно, а иногда и по два раза в день. Следователи менялись – вначале это был оперуполномоченный 3-го отдела УНКВД Максимов, затем его сменил Каганер, а когда Каганера арестовали и расстреляли, в дело включился оперуполномоченный Собко. На первых допросах Тася все отрицала, но после побоев и издевательств, которые, по ее словам, были тяжелее побоев, начала давать «признательные показания».
ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОЙ ТЫРМОС Н.И.
от 23 марта 1939 года
Допрос вел оперуполномоченный УНКВД Собко.
Вопрос: Чем вы желаете дополнить свои показания?
Ответ: Я желаю уточнить свои показания в части знакомства с Хиони. Я показывала, что познакомилась с Хиони в 34 году при найме дачи. Теперь я вспомнила, что в действительности, я познакомилась с Хиони еще в 27 году на пароходе по пути в Крым, куда я с мужем сопровождала моего больного отца. После этого я до 34 года Хиони никогда не встречала.
Вопрос: Кто познакомил вас с Хиони?
Ответ: На палубе стояла группа врачей, в том числе и врач Кригер, Розен, Гигелашвили, мой отец, и кто-то из них, кажется мой отец, познакомил меня и моего мужа Брейтбурда Исидора Самойловича с Хиони.
Подписи: Тырмос, Собко, 23 марта 1939 г.
Тася, конечно, лгала в своих «признательных показаниях». И относительно Хиони, с которым она познакомилась не в 34-м и не в 27-м, а, видимо в 1911-м, будучи еще ребенком. И относительно секретаря японского консульства Чэмуры, который, вопреки ее утверждениям, конечно, бывал у них в доме и даже имел обыкновение, сидя под олеандрами на просторном балконе Тырмосов, наслаждаться ароматным чаем со свежими булочками – кулинарным шедевром бабушки Лизы.
Но шпонкой Тася, конечно же, не была.
Никакой. Ни греческой, ни японской.
Как не была шпионкой бабушка Лиза, как не был шпионом и расстрелянный создатель первых летательных аппаратов Хиони.
Тася не была шпионкой, но…
Но если покопаться, то было в ее жизни нечто такое, что во время сталинского террора могло бы жизнь эту привести к концу.
«Аз», «Буки», «Веди»
Это может показаться невероятным, но в 1920-м 17-летняя Тася – ученица престижной женской гимназии Екатерины Семеновны Пашковской, являлась членом подпольной белогвардейской организации «Азбука».
Этот сногсшибательный факт раскопал в секретных архивах НКВД создатель одесского литературного музея Никита Брыгин. И если бы он этого не сделал, то все фантастические рассказы Таси об «Азбуке» так навсегда и остались бы для ее дочери «обычными Тасиными выдумками». (21)
История «Азбуки» мало известна. Все материалы, касающиеся этой организации и сегодня, почти через 100 лет после ее разгрома, засекречены.
«Азбуку» создал в октябре 1918-го в Киеве Василий Шульгин.
И тут несколько слов нужно сказать о Шульгине. Хотя для того, чтобы познакомиться с этим удивительным человеком, «нескольких слов» будет наверняка недостаточно.
Шульгин – это знаковая фигура в российской истории или даже, как говорят, «парадокс российской истории». Талантливый журналист, талантливый оратор, баснословно богатый человек, Шульгин, по рождению и по воспитанию, был монархистом. И, вместе с тем, именно он 2 марта 1917-го в Пскове, в ставке императора Николая II, принял из его рук отречение от престола.
Бессменный редактор одной из популярных антисемитских украинских газет - «Киевлянин», Шульгин был антисемитом. И в то же время в самый разгар ритуального «дела Бейлиса» выступил с большой статьей в защиту евреев. Номер газеты с этой его статьей был конфискован, а сам он три месяца отсидел в тюрьме.
Три месяца в тюрьме! За евреев! Невероятно! Трудно понять и осмыслить поступки этого неординарного человека.
Всегда – в бою! Всегда - в самой гуще событий!
В мае 1920-го Шульгин объявился в Одессе.
Впрочем, слово «объявился» не очень удачно в этом случае.
Не «объявился», а «затаился». Как и почему это произошло – длинная история. Шульгин подробно рассказал ее в своем мемуарном романе «1920». (22)
Революция отняла у Шульгина все: поместья, заводы, земли. Отняла у него газету, отняла блестящую карьеру – кто знает, каких высот алкал он достичь? Революция была для него катастрофой. Он мог бы, конечно, как многие его друзья и родные бежать за границу. Но не сделал этого.
И теперь он в Одессе. В большевистской Одессе.
Удивительно, но этот, одесский период в жизни Шульгина, почему-то почти не известен. Он жил на тогдашней окраине города, неподалеку от Куликового поля, на втором этаже дома номер 6 по Пироговскому переулку, в квартире 19. И, несмотря на поддельные документы, чувствовал себя в относительной безопасности, поскольку считалось, что лидер русских монархистов давно «почил в Бозе». По слухам, им же организованным, он «умер от тифа, где-то в бескрайних степях Бессарабии» - об этом прискорбном событии писала даже какая-то желтоватая газетенка.
В человеке, ходившем по улицам Одессы, трудно было узнать прежнего Шульгина – стройного элегантного аристократа с веселыми глазами и ухоженными пшеничными усами.

Василий Шульгин до революции.
Теперь это был неопрятный согбенный старик, облаченный в какую-то немыслимую кацавейку и еще более немыслимую шляпу на облысевшей голове. Особенно поражала его длинная седая борода - поскольку в прошлом его лишь однажды видели небритым: в трагический день отречения императора.
Впрочем, теперь внешний вид мало волновал лидера российских монархистов - все его мысли и чувства были отданы «Азбуке».
Целью этой, уникальной в своем роде, подпольной организации было возрождение Единой и Неделимой России. Филиалы ее были в Москве, Петербурге, Киеве, а руководящий центр базировался в Одессе. Точное количество участников осталось неизвестным, но, видимо, было весьма значительным. А верхушка включала 33 человека по числу букв древнего славянского алфавита.
Каждый из этой верхушки был зашифрован буквой – от «Аз» до «Ять». Сам глава «Азбуки» носил кличку «Веди», а представитель «Азбуки» в ставке барона Врангеля в Крыму назывался «Слово».
Одесса 1920-го была идеальным местом для «Азбуки».
Одесса 1920-го…
Бандиты, налетчики, воры, фальшивомонетчики…
Кражи, грабежи и убийства случаются даже днем, а с наступлением темноты страшно выйти на улицу.
Одесская Чрезвычайка, главный штаб которой помещался в том самом Доме на Маразлиевской, закончившим свою жизнь в первые дни румынской оккупации, бандитами особенно не интересовалась. У нее и без них хватало работы - почти еженощно расстреливать в гараже десятки домовладельцев, дворян, священников, раввинов. Так что для «темного элемента» было в Одессе раздолье.
Эта криминальная среда была идеальным фоном для подпольной деятельности разного рода иностранных разведок и белогвардейских организаций. Белогвардейцы тысячами стекались в Одессу из захваченных большевиками центральных районов страны. Они надеялись уплыть отсюда за границу. И многие действительно уплыли, но многие не успели и теперь искали возможности хотя бы напакостить ненавистным большевикам.
«Азбука» Василия Витальевича Шульгина, могла предоставить им эту возможность. Да и цели этой организации казались святыми.
Куда уж святее: «Единая и Неделимая». И жизни не жалко!
Но Тася? Какое отношение могла иметь Тася к «Азбуке»?
Тасю в «Азбуку» вовлек Эфэм.
Эфэм и Тася…
Какая странная романтическая история. Полностью выпадающая из контекста окаянных дней Одессы 1920-го, трагических дней Одессы 1937-го и уж, тем более, из зловещих дней и ночей «Города Антонеску» 1941-го. . . .
Итак. Одесса. 1920 год. Весна.
И ничего, что в Одессе большевики.
И ничего, что зверствует Чрезвычайка.
После ночного дождя воздух чист и прозрачен и наполнен терпким запахом акаций и опьяняющим ароматом любви.
По посыпанной желтым песочком аллее Николаевского бульвара идут двое: высокий 27-летний мужчина и рядом с ним, доверчиво опираясь на его руку, тоненькая 17-летняя девушка, почти ребенок.
Это Эфэм и Тася …
Эфэм, а точнее, Филипп Могилевский, племянник Шульгина, сын его родной сестры. Эфэм, как все привыкли его называть, очень близок Шульгину, принадлежит к верхушке «Азбуки» и обозначен последней буквой алфавита «Ять».
До апреля 1920-го Эфэм был редактором газеты «Единая Русь», помещавшейся на Александровском проспекте, на втором этаже дома номер 11. Но по профессии он не журналист, а скульптор, поэтому иногда проводит мастер-классы в Рисовальной школе Манылама на Дворянской. Здесь он и познакомился с Тасей - она, как приличествует дочери доктора Тырмоса, параллельно с занятиями в гимназии, училась рисованию и музыке.
По словам Шульгина, Филипп был очень красив. Особенно поражали его огромные грустные глаза, в которых была какая-то обреченность, будто предчувствие ранней смерти. Все девочки в Рисовальной школе были влюблены в «милого Эфэма», и Тася, конечно, тоже.
А Филипп? Оставшись в Одессе без Лены – жены, сбежавшей в страхе перед большевиками в Константинополь, этот взрослый уже мужчина, вдруг, неожиданно для себя увлекся девчонкой, смотревшей на него снизу вверх влюбленными глазами и с восторгом внимавшей его увлекательным рассказам об «Азбуке».
То, что Тася еврейка, Эфэму, видимо, не мешало. Он сам по отцу был евреем, хотя, как он говорил, «принял Христа».
«История порой шутит», - пишет Никита Брыгин.
Действительно, ну разве это не «шутка»: 17-летняя дочь доктора Иосифа Тырмоса, еврейка - член подпольной белогвардейской организации антисемита Шульгина!?
Брыгин: «Каких-нибудь полгода назад он (Филипп Могилевский, Авт.), вальяжный, преуспевающий, неспешно двигался вот здесь, Французским бульваром, рука об руку с милой барышней, юной поэтессой Наташенькой из «Сына Отечества»…
Они шли и болтали о пустяках. Он выговаривал ей, что ее рифмы из последних стихов…принадлежат не дамской, а писарской, прачечной поэзии, что название ее будущего сборника «Белый крест» тоже не блещет новизной, отдает фрунтом, свирелью и барабаном. А она весело хохотала и тащила его в Фанкони…».
Стихи Наташеньки действительно «отдавали свирелью»:
«Пусть трелью рассыпаются весенние свирели,
Я вышью для любимого по радужной канве.
У солнечного мальчика подвешены качели
На тонких нитях радости в вечерней синеве…».
Наталья Тырмос, Одесса, 1921
Личный архив авторов.
Нет, Эфэм, конечно, не прав. Несмотря на «свирели», а может быть, именно благодаря «свирелям», стихи эти очень «дамские». Впрочем, вполне возможно, что те, другие, «отдающие белогвардейщиной», Тася, рассказывая дочери о своей первой любви к Эфэму, предпочитала не вспоминать.
А Брыгин, между тем, продолжает свой рассказ, и мы, не полагаясь на память дочери, можем познакомиться с той ролью, которую играла Наташенька в «Азбуке». Дело заключалось в том, что доктору Тырмосу принадлежали несколько домов на Французском бульваре, купленных им в 1910 году у наследников покойного мещанина Станислава-Марьяна Криммера за 38 тысяч рублей.(23)

Выписка из купчей крепости.
Одесса, 1910
Один из этих домов, номер 9 по Юнкерскому переулку, по расположению и по внутреннему устройству как нельзя лучше подходил для явочной квартиры, что было очень важно для «Азбуки», поскольку Шульгину приходилось лично встречаться со своими «верными людьми» – все они знали его в лицо, боготворили и только ему повиновались.
И вот Наташенька, рисковая душа, предоставила дом своего отца в распоряжение Эфэма, то есть, в распоряжение «Азбуки».

Дом Иосифа Тырмоса,
Юнкерский переулок № 9.
Одесса, 2000
Дом этот был, конечно, не единственной явочной квартирой Шульгина. Такие квартиры были у «Азбуки» во многих районах города : на Внешней 72 - квартира 30; на Княжеской 17 - квартира 23 (стучать два длинных затяжных и два коротких); на Елисаветенской - кафе «Отдых» и там же на Елисаветинской угол Преображенской в доме со шпилем – квартира врача …
Но дом в Юнкерском переулке считался самым безопасным. Какое-то время там проживала даже спутница жизни Шульгина с двумя его сыновьями от первого брака: белогвардейским офицером Лелей и вихрастым подростком Димкой. Сам Шульгин в своих воспоминаниях не однажды вспоминает явочную квартиру в Юнкерском переулке, в доме, в который можно было войти с улицы через окно.
И все же, как ни надежны были явочные квартиры и как ни верны были «верные люди», время работало против «Азбуки».
Кольцо вокруг подпольщиков сжималось. О том, что Шульгин жив, Чрезвычайка, наконец, догадалась, и для поимки этого опасного преступника в Одессу прибыл сам Феликс Дзержинский.
Шпионская игра, которой так легкомысленно увлеклись Эфэм и Тася, совсем не была игрой. Многих участников «Азбуки» арестовали и в октябре 1920-го расстреляли. Среди них был Эфэм.
И только Шулгин сумел уйти от чекистов: еще до расстрела Эфэма, в августе 1920-го, он вместе с двумя сыновьями на старой рыбацкой шаланде переправился в Крым к Врангелю.
На этом одесская эпопея Шульгина, продолжавшаяся всего три неполных месяца, завершилась. Но впереди у «пародокса российской истории» оставалось еще более полувека жизни, и судьба ему уготовила в этой жизни много интересного, в том числе (кто мог предполагать?) даже встречу с Никитой Хрущевым.
О гибели скульптора Филиппа Могилевского долго шептались девочки в Рисовальной школе на Дворянской, сочувственно поглядывая на Тасю. А она как-то сразу повзрослела и уже не предпринимала никаких попыток «играть в шпионов».
Чрезвычайка ее не трогала. То ли из «пренебрежения» к ее нежному возрасту и незначительной роли в «Азбуке», то ли из «уважения» к доктору Тырмосу, постоянными пациентами которого были многие твердокаменные чекисты.
Однако имя гимназистки Наташеньки Тырмос все-таки сохранилось в архиве НКВД в деле «Азбуки», как и адрес явочной квартиры в доме доктора Тырмоса в Юнкерском переулке. Именно там, в архиве НКВД, откопал эту историю Никита Брыгин. А иначе, мы бы знали о ней только из рассказов Таси, которые казались ее дочери слишком абсурдными, чтобы быть правдой.
Но нет, как оказалось, все это правда.
И май, и Эфэм, и любовь, и «Азбука».
Все это было, но было давно, в 1920-м.
А в 1938-м, когда Тасю арестовали, об «Азбуке» никто уже ничего не знал. Слишком много крови утекло с тех пор в гараже Дома на Маразлиевской, слишком много «поколений» чекистов сменилось за это время, слишком многих успели расстрелять свои же друзья - чекисты.
Так что Тасю теперь обвиняли «только» в шпионаже на пользу двух иностранных государств - Греции и Японии.
Прямых доказательств ее преступной деятельности не было. Но этот «незначительный факт» вряд ли мог иметь существенное значение, и схлопотать бы ей лет 10 без права переписки, если бы…
Смерть Цыпленка
Если бы Сталин по излюбленному им сценарию не решил «сменить коней». И, правда, пора было, пора!
«Злая марионетка» Николай Ежов уже совершил все, что было необходимо вождю, и мог быть пущен в расход. А на смену ему должна была прийти «добрая марионетка» - Лаврентий Бериа.
Историки называют Лаврентия «сталинским монстром». Немало кровавых преступлений есть на его счету. Так же, как Сталин, он не знал сострадания и мог без проблем залить всю страну кровью. Но, видимо, Сталин в те дни поставил ему другую задачу.
С приходом Берии что-то вдруг изменилось.
Аресты «шпионов и диверсантов» пошли на убыль, постановления Особого совещания стали более мягкими, и в то же время из лагерей начали возвращаться недорастрелянные «враги народа»: военачальники, ученые, артисты, да и простые «шпионы и диверсанты», так и не сумевшие понять, с какой именно иностранной разведкой они были связаны.
Под эту волну попала и Тася. За все свои «тягчайшие преступления» она получила всего три года вольной высылки в Казахстан в город Кокчетав (Кокшетау он станет в 1993-м).
Как только Изя узнал, что Тасю отправили в Кокчетав, он принял решение ехать за ней в ссылку, так же как в царские времена ехали за мужьями жены декабристов. Но воспетая Некрасовым княгиня Трубецкая ехала на каторгу к мужу, можно сказать, с комфортом:
«Покоен, прочен и легок
На диво слаженный возок…
Шесть лошадей в него впрягли,
Фонарь внутри его зажгли.
Сам граф подушки поправлял,
Медвежью полость в ноги клал …».
Н. А. Некрасов, «Русские женщины». 1826
А Изя много дней трясся в бесплацкартном вагоне допотопного Карагандинского поезда – только от Петропавловска до Караганды 10 дней. И ехал он не один…
Изя вез в ссылку свою маленькую дочь. На свидание, нет, на знакомство с матерью, которую она не помнила.
Ролли прибыла в Кокчетав в средине апреля 1941-го.
Кокчетав – маленький городок, затерявшийся в казахской степи.
В Одессе была уже весна, а Кокчетаве мороз все еще доходил до 25 градусов, и город был завален снегом по самые крыши своих одноэтажных деревянных домиков.
В зимнее время главной аттракцией этого города был деревянный барак кинотеатра. А в летнее – озеро Копа, на лесистых берегах которого местные жители варили в котлах водившихся здесь огромных раков. И во все времена года – базар. Настоящий восточный базар с кумысом и пресными лепешками, базар, на который можно было приехать на верблюде и, не слезая с оного, купить все, что душе угодно. С давних царских времен Кокчетав служил местом ссылки политических, а в сталинские времена сюда повалил поток «врагов народа». Говорят, что только из Западной Украины прибыли в Кокчетав около 15 тысяч поляков и немцев. Этому трудно поверить, так как в те дни в городе проживало около 19 тысяч человек. Но, правда, что в 1938-м почти в каждом домике Кокчетава жили ссыльные.
В одном из таких одноэтажных двухкомнатных домиков поселилась Тася. В первой более просторной проходной комнате - жили хозяева с детьми и собаками, а в холодные ночи к ним присоединялись теленок, куры и гуси, во главе с кусачим гусаком Митькой. А заднюю маленькую комнатку сдавали Тасе. Оплата за нее достаточно высокая включала мойку пола и чистку картошки, которую дочь доктора Тырмоса так и не научилась чистить.
Теперь в этой маленькой комнатке (в которую можно было попасть только пройдя через хозяйскую, мимо страшного гусака Митьки), вместе с Тасей, папой и Зайцем будет жить Ролли.

Заяц, Ролли и Тася в ссылке.
Кокчетав, весна 1941
Мечта девочки исполнилась – наконец-то она увидела свою мать.
Но… и здесь нужно сказать правду - эта мать ей не понравилась!
И даже более того – они обе, мать и дочь, не понравились друг другу. У Таси, измученной тюрьмой, допросами и побоями, не было сил для того, чтобы подружиться с избалованной отцом четырехлетней девчонкой. А та, в свою очередь, не желала признавать эту чужую женщину. Тася совсем не была похожа на фею из сказки о Золушке, на которую она обязательно должна была быть похожа. Ролли отказывалась называть ее «мамой» и убегала из жалкой маленькой комнаты, от страшного гуся Митьки за город на сопки с новоявленным другом – казашонком по имени Сабур.
Изя, как мог, старался скрасить для дочери жизнь в этом странном для нее мире в обществе странной незнакомой ей женщины. Не имея возможности достать в Кокчетаве игрушки, он купил для нее на базаре живого Цыпленка, надеясь, что это маленькое существо развлечет девочку.
И правда – Ролли полюбила Цыпленка, разговаривала с ним, гладила белые мягкие перышки, кормила из рук. Удивительно, но и Цыпленок, видимо, привязался к девочке. Он с радостью мчался на ее зов и с явным удовольствием дремал у нее на руках.
А с Тасей отношения не налаживались. Ролли почти ничего не ела из приготовленной ею еды и с каждым днем становилась прозрачнее. Тася, как сказано, не умела чистить картошку, и вообще не умела готовить, но понимая, что так продолжаться не может, решилась сварить для дочери куриный бульон.
В качестве курицы для бульона Тася выбрала … Цыпленка.
Узнав о смерти Цыпленка, Ролли заплакала. Она рыдала так горько и громко, что в маленькой комнате жильцов собрались все соседки хозяйки. Они стояли вдоль стены рядком, качали повязанными платочками желтолицыми головками и цокали лиловатыми язычками, то ли сочувствуя безутешной Ролли, то ли жалея безвременно погибшего Цыпленка.
К куриному бульону, конечно, никто не притронулся.
А Изя понял: нужно уезжать. Он сложил немногие их вещи в черный чемодан, взял за руку ребенка и …
В мае 1941-го они уже были в Одессе.
А в начале июня из ссылки неожиданно вернулась Тася.
Все это действительно получилось как-то неожиданно. По первоначальному плану Изя собирался найти в Кокчетаве работу и пожить там несколько лет. Ведь Тася даже после окончания срока ссылки не имела права на возвращение в «режимный» город Одессу, да и Лиза отбывала свой срок неподалеку - в КАРЛАГЕ. Но самое главное, вдали от Одессы было более безопасно - меньше шансов быть арестованным по какому-нибудь невероятному обвинению. Но все сложилось иначе…
Так случайнее незначительное, на первый взгляд, событие - смерть маленького Цыпленка - стало поворотным пунктом в судьбе целой семьи. Эта смерть привела их в Одессу, к которой стремительно приближалась война.
26 июня 1941, Одесса-Кокчетав
Рассказывает Ролли
Приблудная Лошадь
К нам приблудилась Лошадь.
Нет, не так.
Сначала, вдруг, откуда-то взялась Война.
А потом уже приблудилась Лошадь и взялась Незнакомая Тася - вместе с Лошадью и Войной.
Я еду в «Ссылку»
Незнакомая Тася – это на самом деле моя мама. Только я с ней не успела познакомиться, потому что, когда я была маленькая и не умела еще ходить, Тасю, которая была, как оказалось, я-пон-ская шпионка, аре-то-вали и посадили сидеть … в тюрьму?!
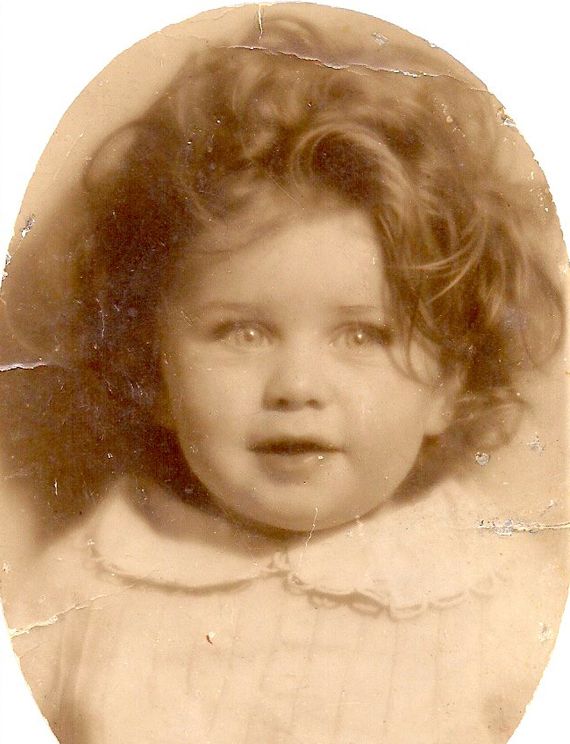
Ролли Тырмос
Тасю арестовали, а я осталась дома с папой, который, как он говорил, теперь стал мне и папой и мамой.
Правда, потом, когда я уже выросла, и мне стало почти пять лет, я с Незнакомой Тасей все-таки познакомилась. Но это было уже в Ссылке, в Кокчетаве, куда мы с папой и с Зайцем ездили. Я с Незнакомой познакомилась, но от этого она не стала знакомой, а стала еще больше Незнакомой.
Сначала, правда, все было очень весело – сначала мы ехали в Ссылку. Попасть в эту Ссылку мне хотелось давно. У нас дома все об этой Ссылке только и говорили. Только и слышно было: «в ссылку», «из ссылки», «в ссылку», «из ссылки»...
Ну, так вот, теперь я сама еду в Ссылку и могу сама посмотреть, что эта за Ссылка такая. И потом, там, кроме Таси, была еще и моя баба Лиза – мама моего папы, с которой я тоже не успела познакомиться, потому что ее арестовали еще раньше, чем Тасю. Баба Лиза была гре-чес-кая шпионка и была, на самом деле, не в Ссылке, а так просто, как пионерка, в «лагере», что мне гораздо меньше нравилось.
Ссылка была далеко – и мы с папой сначала немножко ехали на извозчике, а потом множко на поезде. Ехать на поезде было даже веселее, чем на извозчике. В нашем вагоне было много разных людей, все они говорили про Ссылку и ехали в Ссылку. Особенно я подружилась с одной маленькой старенькой старушкой, которая ехала к своему сыну, он был, кажется, не-мец-кий шпион.
Мы ехали на поезде весь день и всю ночь, и еще день и еще ночь, и еще, и еще. Я прыгала по вагону, болтала с маленькой старенькой старушкой, хвасталась перед ней своим Зайцем, новым платьицем и новым вышитым карманчиком на красной ленточке, который одевался через голову на платьице. Старушке карманчик очень нравился, только она считала, что нельзя класть в него конфеты, которые я сначала держала во рту, а потом вынимала и прятала в карманчик «на потом», потому что эти конфеты обязательно слипнут карманчик. Ну и что, что слипнут! Пускай себе слипают!
А еще на одной станции папа купил мне Огурец!
Светло-светло зеленый и очень-очень большой.
Папа сказал, что кушать этот Огурец мы будем вечером, а пока я могу на него посмотреть и даже потрогать его колючую шкурку.
Когда наступил вечер, и небо в окне вагона стало лиловым, как чернило, а под потолком зажглась желтая лампочка, мы с папой стали ужинать. Мой Огурец устроился рядом с крутым яйцом и с булкой на нашем черном чемодане, который папа поставил на нижнюю полку и застелил газетой. Я, конечно, хотела ужинать на столике возле окошка, где ужинала старенькая старушка. И даже собиралась плакать. Но потом передумала. Столик у окна был высокий, и папа боялся, что я не дотянусь, или упаду, или еще что-нибудь…
Так мы сидели с папой на нижней полке, а между нами лежал наш черный чемодан, покрытый газетой, и мы ели Огурец. А потом папа уложил меня на верхнюю полку спать, потому что завтра нам надо рано вставать. Завтра мы, наконец, приезжаем в Ссылку. Я стала думать про Незнакомую Тасю и, кажется, заснула.
И тут как раз и начались все эти не-прият-нос-ти-и.
Завтра еще не наступило, когда наш поезд вдруг остановился. В окошке вагона, которое теперь было черным, как наш чемодан, замигали маленькие огоньки и, оказалось, что мы уже приехали в Ссылку. И что нам нужно быстренько вылезать, потому что, как прокричала проводница, «поезд стоит здесь всего три минуты».
Пока папа собирал вещи, проводница надела на меня шубку и капор, вынесла меня из вагона и поставила у самого поезда прямо в снег.
И вот я стою и стою одна на снегу, в темноте. Папы нет и нет вокруг никаких людей. Только напротив меня стоит одна высокая и чужая женщина. Она стоит очень прямо, ничего не говорит и ко мне не подходит, только смотрит на меня каким-то даже, кажется, злым взглядом.
И я тоже на нее смотрю, смотрю и смотрю…
Тут, наконец, мой папа вместе с черным чемоданом соскочил с подножки вагона на снег, а наш поезд, загудел и поехал себе в другую Ссылку…
И в это самое время та высокая и прямая как прыг-нет, как бросится на меня, как начнет меня хватать и душить!!!
Душит и душит и что-то приговаривает и бормочет. А что совсем не понятно и не слышно даже, потому что наш поезд гудит и стучит по рельсам, да еще и капор мне уши закрывает. Тут я и заплакала - заревела, громко, наверное, даже громче чем поезд, а папа бросил чемодан и стал меня от этой прямой отдирать. Еле-еле отодрал!
Из письма Натальи Тырмос
к ее уже взрослой дочери в Израиль,
6 Февраля 1977года
Моя дорогая девочка, почему то мне стало очень грустно в последние дни, не знаю, увидимся ли…
Ты же пойми, что не всякому на роду было написано, пережить столько, сколько пережила я. Так получилось у нас нелепо с тобой, но я тебя не виню ни в чем, да и ты собственно меня винить не можешь ни в чем. Миллионы пострадали, и мы с тобой оказались среди них. Возможно и, даже, наверное, что все происшедшее со мной в 1938 году, послужило этому твоему отчуждению и нашему разрыву.
Вокзал.11 часов, а поезд придет в 2 ночи…
Как долго тянутся часы…
Огни. Поезд тащится еле-еле – остановился.
Я стою оцепеневшая, вижу - из вагона незнакомые люди ставят в снег маленькую фигурку в белой лохматой шубенке и в капоре. Я знаю – это моя дочь, мой ребенок, это – ты, но я не могу двинуться, я каменная, я держу в руке маленького коричневого мишку, которого я раздобыла, чтобы ты отвлеклась и не почувствовала моего волнения…
Белое существо стоит, и стою я.
Из вагона с чемоданами вылезает папа, тогда я бегу к белому существу, я на коленях в глубоком снегу, я сую тебе медвежонка, я ничего не могу говорить, я душу как-то тебя, прижимаю. Оно ледяное это существо, никак не реагирует, оно меня не знает, не любит, не помнит, не хочет знать меня…

Страничка из письма Таси
Еле-еле отодрал меня папа от этой прямой, а потом взял на руки, вместе с шубой и с валенками, и стал успокаивать. А она все еще что-то бормотала и, кажется, плакала, и совала мне в руки мишку - маленького коричневого. Нужен мне ее мишка! У меня свой Заяц есть у папы в чемодане!
А потом вдруг оказалось, что эта прямая, которую я так испугалась, была как раз та Незнакомая Тася, с которой я хотела познакомиться и даже приехала для этого к ней в Ссылку. (24)
Но Незнакомая Тася, когда я с ней познакомилась, почему-то не стала знакомой, а стала еще больше незнакомой. Стала совсем незнакомой.
А потом, как-то, не знаю точно, как, мы с папой опять оказались в Одессе, в нашей старой квартире деда Тырмоса, и Тася тоже там была, потому что у нее вся ссылка кончилась, и она к нам приехала. И тут откуда-то взялась Война, и к нам приблудилась Лошадь.
Лошадь к нам приблудилась сразу же, как только Зина-Бензина на своей машине, которая называется «пикап», перевезла нас на дачу.
Зину-Бензину я знала давно. Она каждое утро увозила папу строить Оборону, потому что была Война, на нас наступали немцы, и нужно было очень срочно строить Оборону, а мой папа был как раз ин-же-нер.
Папа всегда сидел в кабине рядом с Зиной-Бензиной, и я, когда ездила кататься, тоже залезала в кабину к нему на колени. Но в тот день, когда мы переезжали на дачу, в кабине, рядом с Бензиной, вместо папы, сидела Тася, и я ни за что не захотела залезать к ней на колени. Папа сначала сердился, а потом посадил меня в кузов, на мешок с одеялами и сам сел рядом. Так мы и поехали, ехали-ехали, и въехали на дачу, прямо на главную аллею.
Тут сразу вокруг «пикапа» собрались дачные дети. Всем им очень понравилось, как это я сижу так высоко, на мешке с одеялами, и они захотели узнать, как меня зовут. Я им и прокричала: «Меня зовут Ролли! РоллИ и, ни в коем случае, не РоллЯ. Ролли - это такое имя, в котором есть два «Л». А на конце – игрек». С этого дня дачные дети стали называть меня «Роль-игрек».
Наша дача называется – «дача Хиони», потому что, как говорит Тася, ее хозяином был когда-то Хиони – больший друг деда Тырмоса. Его потом все равно арестовали, еще раньше, чем Тасю и бабушку Лизу, потому что он был грек и греческий шпион.
За забором Хиони была еще другая дача, которая называлась Реске, а почему она так называлась, я уж и не знаю. Но на Хиони можно было играть и бегать по дорожкам вокруг всего дома, а если хотелось побежать на Реске, нужно было уже спрашивать разрешение у Таси. Спрашивать у Незнакомой разрешение было неприятно, потому что она всё равно никогда и ничего не разрешала. Она для того и сидела целый день на даче, чтобы «неразрешать». А сама говорила, что сидит, потому что она «японская шпионка и приехала в Одессу совсем недавно из ссылки».
Когда к нам приблудилась Лошадь, Тасе она не понравилась, хотя Приблудная была красивая - коричневая с белой точечкой на лбу. Но Тася сердилась и требовала: «Отправить Лошадь! Не-мед-лен-но!».
Папа не соглашался.
«Тася, - говорил он.- Идёт война. Кто знает, что будет дальше. Лошадь нам просто необходима».
И Лошадь осталась. Папа привязал ее в саду, за кустами. Я очень любила эту Приблудную, и когда Тася не видела, добывала для нее сахар - огромные голубые кусища - из серого мешка, который стоял на полу в углу нашей комнаты. Сахар в мешке назывался – «запасы», и его ни в коем случае, ну совершенно, ни в коем случае, нельзя было трогать. Но Приблудная сахар очень любила и даже тихонько ржала от удовольствия, когда я кормила ее с ладошки Тасиными запасами.
По вечерам, когда Зина-Бензина привозила папу с Обороны, он отвязывал Лошадь и вел её к крану поить и немножко купать. Всю дорогу - от кустов и до самого крана - я сидела на спине у Приблудной, а за нами бежали дачные дети и дразнили меня: « Роль-игрек! Роль-игрек!» Им тоже очень хотелось покататься на Лошади. И вот, однажды, когда Лошадь пила водичку, папа, вместо меня, посадил ей на спинку одну толстенную девчонку. Лошадь очень рассердилась. Она дрыгнула задней ногой и попала копытцем мне прямо в живот.
Ничего особенного со мной не случилось. Я полетела в кусты и поцарапалась о колючки. Но папа испугался и стал искать по всем дачам доктора, чтобы посмотрел мне на живот, на то место, куда ударила Лошадь.
На одной из соседних дач как раз жил доктор - про-фес-сор Часовников. Он прятался там от красных.
У нас на дачах все тогда прятались. Только и слышно было, как шепчутся дачные бабушки: «Этот прячется от бомбежки, тот от красных, а тот ещё от чего-то, кажется, от фронта». Незнакомая Тася пряталась от Ссылки, а я часто пряталась от неё.
Часовников не хотел приходить и смотреть мне на живот. Но когда Тася ему объяснила, что «эта девочка - внучка того самого доктора Тырмоса», он согласился. Пришел, посмотрел и даже потрогал живот немножко. А потом он похвалил Лошадь и объяснил папе, что она ни в чём не виновата, что удар был не сильный и что «вообще, не о чём говорить».
И все осталось, как было раньше, и Приблудная Лошадь, и Незнакомая Тася, и папина Оборона, и Война.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Яков Верховский, Валентина Тырмос «Сталин. Тайный сценарий начала войны», ОЛМА-ПРЕСС, М., 2005
2. И. Бабель «Конармия. Одесские рассказы. Пьесы». BRADDA BOOKS LTD, Germany, 1965
3. В. Жаботинский (Altalena) «Пятеро», Jabotinsky Foundation, New York
4. Анатолий Горбатюк «Дитя Европы», Optimum, Одесса, 2007
5. Александр де-Рибас «Старая Одесса», КРАФТ, М., 2005. По книге «Старая Одесса», Книжный магазин Георгия Руссо, Одесса, 1913
6. Олег Губарь «101 вопрос об Одессе», Optimum, Одесса, 2006
7. Джорж Гордон Байрон «Дон Жуан». Собрание сочинений в четырех томах. «Правда», М., 1981
8. «История Петербурга», №4 (14), Санкт-Петербург, 2003
9. Анатолий Горбатюк, Владимир Глазырин «Юная Одесса», Optimum, Одесса, 2002
10. «Прошлое и настоящее Одессы». Издание Одесской городской аудитории Народного чтения ко дню столетия г. Одессы 1794-1894, Одесса, 1894
11. И.М. Шкляж «Тайна адмирала де Рибаса», ОГПУ, Одесса, 1996
12. Стивен Ципперштейн «Евреи Одессы», ГЕШАРИМ, Москва-Иерусалим, 1995
13. «Очерки по истории еврейского народа», под редакцией проф. С. Этингера. Изд. «Ам Овед», Тель-Авив, 1972
14. Татьяна Донцова «Молдаванка», Изд. «ДРУК», Одесса, 2001
15. «А. И. Куприн. Собрание сочинений в шести томах. Государственное издательство художественной литературы, М., 1958
16. Дмитрий Волкогонов «Сталин», Новости, М., 1996
17. Иехезкель Керен «Евреи Крыма», Иерусалим, 1981 (на иврите)
18. Булгаков М. А. « Мастер и Маргарита», Худож. Лит. М., 1988
19. «Копия дела № 86402 по обвинению Инглези М.М., Инглези Е.Д., Брейтбурд Л.Х., Сапелкиной А.М., Савоста Е.М., Савоста Г.В., Девоянц Е.А., Девоянц Г.П. и Савоста Г.В по ст. 54-1а и 94-10 УК УССР» - Арх. № 7712-п. Одесса, 2000. Личный архив авторов.
20. «Копия дела № 115011 по обвинению Тырмос-Брейтбурд Н. И. по ст. 54-10 УК УССР», Арх. № 6272-п. Одесса 2000. Личный архив авторов.
21. Никита Брыгин «Азбука», Оптимум, Одесса, 2000
22. В. Шульгин «1920», София. 1921
23. Оригинал выписки из крепостной Одесского Нотариального архива книги по второй части города Одессы на 1910 год, часть 1, №2, страница 928 № 179. Личный архив авторов.
24. Подборка из двухсот писем Натальи Тырмос к дочери в Израиль (!973-1980). Личный архив авторов.